|
|
Апокалипсис любви: философский очерк о многообразии любви
|
|
|
| Возрастное ограничение: |
0+ |
| Жанр: |
Философия |
| Издательство: |
Проспект |
| Дата размещения: |
10.03.2017 |
| ISBN: |
9785392243310 |
|
Язык:
|

|
| Объем текста: |
404 стр.
|
| Формат: |
|
|
Оглавление
Предисловие
Глава 1. Девять «Кругов любви»
Глава 2. Любовь в закрытом обществе
Глава 3. Любовь к свободе
Глава 4. Природа человека и любовь
Глава 5. О смысле любви
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
Глава 1.
Девять «кругов любви»
1. Только в любви и через любовь
Лишь благодаря любви человек становится человеком. Без любви он неполноценное существо, лишенное подлинной жизни и глубины и не способное ни действовать эффективно, ни понимать адекватно других и себя. И если человек — центральный объект философии, то тема человеческой любви, взятая во всей ее широте, должна быть одной из ведущих в философских размышлениях.
Любовь — непосредственное, интимное и глубокое чувство, предметом которого выступает прежде всего человек, но могут быть также другие объекты, имеющие особую жизненную значимость. Любовь представляет собой средство социализации человека, вовлечения его в систему общественных связей на основе спонтанной и вместе с тем внутренне мотивированной потребности в движении к более высоким ценностям. Любовь — это также единственный способ понять другого человека в его глубочайшей сущности. «Для тех, кто живет по злу, — говорит писатель Ю. Нагибин, — жизнь — предприятие, но для большинства людей она — состояние. И в нем главное — любовь. Эту любовь уносят с собой во все последующие превращения, безысходно тоскуя об утраченных…»
Анализ любви является сложной, многоаспектной темой, пограничной между искусством, философией и психологией. Любовь — это влечение, порыв, вдохновение, воля к власти и вместе с тем стремление к верности, особая сфера творчества и одновременно стимул к творчеству в других областях, предметное выражение глубин личности и ее свободы, притом свободы, готовой добровольно принести себя в рабство. Любовь — сложное, многоплоскостное пересечение биологического и социального, личностного и общественно значимого, интимного, затаенного и вместе с тем открытого, ищущего, претендующего.
Философское исследование любви разворачивается далее в двух основных направлениях: описание многообразных конкретных видов любви — от наиболее отчетливых ее видов до видов, стоящих на грани влечения и пристрастия, — и исследование тех общих черт, которые присущи каждой из разновидностей любви. Главное внимание уделяется любви к человеку, составляющей ядро любви вообще.
Существенное внимание уделяется изменению структуры эмоциональной жизни в ходе исторического развития общества и изменению любви как одного из наиболее ярких проявлений этой жизни. По мере развития общества любовь все более наполняется социальным и в особенности нравственным содержанием, становясь постепенно образцом новых отношений между людьми. Наивно считать, что она уводит человека от острых социальных проблем в область сугубо личных переживаний.
2. О видах и формах любви
В любви особенно поражает многообразие ее видов и форм. Мы говорим об эротической любви и любви к самому себе, любви к человеку и к богу, любви к жизни и к родине, любви к истине и к добру, любви к свободе и к власти и т. д. Выделяются также любовь романтическая, рыцарская, платоническая, братская, родительская, харизматическая и т. п. Существуют любовь-страсть и любовь-жалость, любовь-нужда и любовь-дар, любовь к ближнему и любовь к дальнему, любовь мужчины и любовь женщины и т. д.
При перечислении разновидностей любви возникает чувство, что нет такой единой плоскости, на которой удалось бы разместить их все, нет общего, однородного пространства, в котором они могли бы встретиться.
Что соединяет до крайности разнородные страсти, влечения, привязанности и т. п. в единство, именуемое «любовью»? Как соотносятся они друг с другом? На эти вопросы о сущности и видах любви, в ясной форме поставленные еще в античности, пытались ответить многие. Но никаких общепринятых ответов нет.
Далее рассматривается подразделение возможных видов любви на основные группы. В качестве характерных примеров каждой из таких групп взяты любовь к родине, любовь к богу, космическое чувство, любовь к добру и справедливости, стремление к богатству, привязанность к «закону и порядку» и, наконец, влечение к пище — одна из самых дальних окраин любви.
Вопрос о взаимных отношениях видов любви не проще, чем вопрос о ее смысле. Классификаций любви предложено множество, но все они или неполны и не охватывают всех ее разновидностей, или лишены ясного внутреннего принципа. Типологизировать любовь из-за текучести этой «материи», пожалуй, столь же сложно, как внести упорядоченность в мир элементарных частиц или вирусов.
Вот некоторые примеры, дающие представление о сложности деления любви на виды.
Древние греки различали любовь-страсть (эрос), граничащую с безумием, и более спокойную любовь (филиа). Любовь-страсть, как и всякая страсть, редка, ограничена в своем предмете и непродолжительна. Обычно это половая любовь, но не только она. Более спокойная любовь устойчивее и разнообразнее. Такой любовью можно любить многое: отца, мать, детей, братьев и сестер, друзей, родной город, сограждан, человека, родину. Это также любовь к власти, славе, свободе, истине, добру, прекрасному, богатству, общению, одиночеству и т. д. Предметами данной любви могут быть даже порок, ложь и корыстолюбие, хотя и не безобразное, или несвобода.
В последующем этот широкий подход к любви, нащупанный инстинктивно и отложившийся в самом древнегреческом языке, был во многом утрачен. Область ценностей, на которые обычно направляется любовь, оказалась резко суженной: нередко до человека и бога, а иногда даже до единственной точки — человеческого существа другого пола. Была забыта и другая старая идея — противопоставление каждому виду любви противоположно направленного влечения: любви к добродетели — стремления к пороку, любви к истине — склонности ко лжи и т. п.
Восприятие древними любви при всей его наивности подкупает своей непосредственностью и последовательностью. Две его особенности — широкое истолкование любви и противопоставление ей не просто абстрактной ненависти, а конкретных, противоположно направленных влечений — положены далее в основу рассуждений о «кругах любви».
Флорентийский неоплатоник XV в. М. Фичино говорил о возможности трех видов любви. Это любовь высших существ к низшим, выражающаяся в умиленном опекунстве, любовь низших к высшим, проявляющаяся в благородном почитании, и любовь равных существ, составляющая основу всепроникающего гуманизма.
Эта идея выделения видов любви в зависимости от «ранга» связываемых ею существ используется многими философами и психологами.
Так, английский писатель К. С. Льюис различает любовь-нужду и любовь-дар. Типичный пример первой — любовь к своим детям человека, который работает на них, не жалея сил, отдает им все и жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, бросающийся к матери.
Русский философ В. С. Соловьев определяет любовь как «влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни». Из обоюдности отношений в любви Соловьев выводит три ее вида: любовь, которая более дает, чем получает, или нисходящая любовь; любовь, которая более получает, чем дает, или восходящая любовь; любовь, в которой и то, и другое уравновешено. Реальными аналогами этих трех видов любви являются родительская любовь, любовь детей к родителям и половая (супружеская) любовь. Из сыновней привязанности вырастает любовь к своему роду, а затем и любовь к богу. Родительская любовь, или попечение старших о младших, защита слабых сильными, перерастая родовой быт, создает отечество и постепенно организуется в национально-государственный быт. Половая любовь, все более понимаемая как полнота жизненной взаимности, становится высшим символом идеального отношения между личным началом и общественным целым. В родительской любви преобладает жалость; в сыновней и вытекающей из нее религиозной — благоговение, в половой — чувство стыда.
Это — простая и стройная классификация любви. Она соответствует определению данного чувства, принятому Соловьевым. Однако само определение чересчур узко, так что классификация охватывает только влечение друг к другу «одушевленных существ». За ее рамками остаются любовь к природе, к истине, к власти и славе, не говоря уже о любви ко всяким пустякам и к самому себе.
Американский психолог Т. Кемпер в основу своей классификации кладет два независимых фактора: власть и статус. Власть — это способность силой заставить партнера сделать то, что ты хочешь; статус — способность вызывать желание партнера идти навстречу твоим требованиям. В зависимости от того, является уровень власти и статуса высоким или низким, выделяются семь типов любви:
— романтическая любовь, в которой оба партнера обладают высокими и статусом, и властью: они стремятся идти навстречу друг другу и вместе с тем каждый из них может «наказать» другого, лишив его проявлений своей любви;
— родительская любовь к маленькому ребенку, в которой родитель обладает высоким уровнем власти и низким статусом (поскольку любовь ребенка к нему еще не сформировалась), а у ребенка мало власти, но высок статус;
— братская любовь, в которой оба члена пары имеют малую власть друг над другом, но охотно идут навстречу один другому;
— харизматическая любовь, имеющая место, например, в паре «учитель — ученик», когда учитель имеет и возможность принуждения, и желание идти навстречу ученику, а ученик не обладает властью над учителем и охотно исполняет его пожелания;
— «поклонение» литературному или иному герою, с которым нет никакого реального взаимодействия и у которого нет ни власти, ни статуса, а у его поклонника высок статус, но нет власти;
— влюбленность, когда у одного из партнеров есть и власть, и статус, а у другого их нет, как это бывает в случае односторонней, безответной любви;
— «измена», когда один обладает и властью, и статусом, а другой — только властью, как это имеет место в ситуации супружеской измены, когда оба супруга сохраняют власть друг над другом, но один из них уже не вызывает желания идти ему навстречу.
Эта интересная типология любви, отличающаяся простотой и ясностью, является тем не менее абстрактной и явно неполной. Два элементарных фактора, власть и статус, очевидно недостаточны для выявления и разграничения всех тех многообразных отношений, которые покрываются общим словом «любовь».
Кроме того, понятия власти и статуса связаны не только с этими отношениями, но и со многими другими взаимоотношениями людей. Из двенадцати возможных типов отношений с точки зрения власти и статуса Кемпер причисляет к «отношениям любви» лишь семь; для других возможных отношений аналогов в сфере любви, как кажется, нет. Не ясно, например, как истолковать ситуацию, когда оба партнера имеют высокую власть, но низкий статус. Может быть, это то, что принято называть «супружеской ссорой», когда супруги, сохраняя известную власть друг над другом, не выказывают желания идти навстречу друг другу? Как истолковать ситуацию, когда оба партнера не обладают ни властью, ни статусом? Или когда у одного высокие власть и статус, а у другого только власть?
Родительская любовь не совпадает с сыновней (дочерней) любовью. Для последней, можно думать, характерны (если рассуждать о ней только в терминах власти и статуса) со стороны ребенка низкий уровень власти над родителями и большое желание идти им навстречу, а со стороны родителей — высокий уровень и власти, и статуса. Но если это так, отношение ребенка к родителям будет, по Кемперу, харизматической любовью и ничем не будет отличаться от отношения примерного ученика к учителю. В сыновней привязанности есть элемент харизматической любви, но первая вовсе не сводится ко второй.
Родительская любовь к взрослому ребенку характеризуется, как можно предположить, низкой властью обеих сторон и их высоким статусом. Но в таком случае эта любовь совпадает с братской любовью.
Если попытаться ввести в рассматриваемую схему также любовь к богу, то для этого останется, по-видимому, только одна возможность: отождествить эту любовь с влюбленностью, безответной любовью.
Все это говорит о том, что пара «власть — статус» весьма приблизительно характеризует отношение любви, а иногда даже отождествляет его с какими-то иными отношениями людей.
Вряд ли вообще можно надеяться, что на основе таких простых понятий, как более высокое и более низкое место в некоторой иерархии, нужда и дар, объем получаемого удовлетворения, власть и статус и т. п., удастся классифицировать такое сложное явление, как любовь.
Простые классификации любви, имеющие достаточно ясное основание, обладают тем достоинством, что они поддаются хотя бы теоретической проверке. Такие классификации полезны в психологии, при исследовании эмоциональных отношений. Но их роль в философском анализе любви не может быть существенной.
3. Новый подход к многообразию любви
Оставим надежду на общую типологию любви, которая опиралась бы на ясные и простые понятия и вместе с тем не огрубляла бы любовь и не упускала каких-то важных ее видов. Дело здесь не в недостаточной изобретательности человеческого ума, а в многогранности и одновременно неопределенности, «текучести» предмета, подлежащего расчленению.
Платон в диалоге «Симпозион» описывает путь очищения и возвышения любви, следуя которому, поверхностная эротическая любовь (любовь к прекрасным телам) переходит в любовь к «прекрасным душам», а последняя — в любовь к самой Красоте, совпадающей с Добром и Истиной. Любовь к человеку сказывается, таким образом, всего лишь первым шагом на пути любви к богу, первой ступенью к чистому и возвышенному религиозному чувству.
Русский философ С. Л. Франк пишет по поводу этого «пути любви»: «Как бы много правды ни содержалось в этом возвышенном учении, оно все же не содержит всей правды любви; мы не можем подавить впечатления, что этот путь очищения и возвышения любви содержит все же и некое ее умаление и обеднение; ибо “любовь” к Богу, как к “самой Красоте” или “самому Добру”, есть менее конкретно-живое, менее насыщенное, менее полное чувство, чем подлинная любовь, которая есть всегда любовь к конкретному существу; можно сказать, что любовь к Богу, купленная ценою ослабления или потери любви к живому человеку, совсем не есть настоящая любовь».
Заметим эти две мысли: идею определенного «пути любви», для которого каждый конкретный вид любви является только ступенью в общем движении, и уточнение к данной идее: чем полнее и подлиннее любовь, тем она конкретнее, тем ближе она к живому человеку.
Любовь очень разнородна, она включает не только разные виды и их подвиды, но и то, что можно назвать формами любви и ее модусами. Видами любви являются, например, любовь к ближнему и эротическая любовь. Формами проявления любви к ближнему служат любовь к детям, любовь к родителям, братская любовь и др.; модусами являются любовь мужчины и любовь женщины, любовь северянина и любовь южанина, любовь средневековая и современная и т. п. Можно говорить просто о любви к ближнему; но можно говорить более конкретно о любви к детям или еще более конкретно об отцовской любви. Конкретизация может идти дальше, в результате чего выделяются не только формы и модусы, но и «модусы модусов» и т. д. В случае эротической любви формами ее могут быть гетеросексуальная и гомосексуальная любовь, а модусами — чувственная и духовная («платоническая», интеллектуальная) любовь, мужская и женская любовь, куртуазная и романтическая любовь, любовь-игра и любовь-страсть и т. д.
Понятно, что отношение форм любви к ее видам и модусов к формам не остается постоянным: разные виды любви могут иметь разные формы своего проявления, а разные формы — разные модусы. Скажем, формы эротической любви не являются формами любви к власти или истине; некоторые модусы эротической любви могут быть формами любви к творчеству или любви к природе и т. п.
О возможных формах и модусах любви далее почти не будет идти речь. Сосредоточимся на самих видах любви. Их можно соотносить по-разному. Самое простое и, как кажется, естественное их упорядочение — это представление всего поля любви в виде ряда «ступеней». Каждая из «ступеней» включает в чем-то близкие виды любви, а движение от ядра к периферии подчиняется определенным принципам.
Следуя классическому образцу Данте, писавшему в «Божественной комедии» о девяти ступенях нисхождения в ад, выделим девять «ступеней», ведущих от эротической любви через любовь к ближнему, любовь к человеку и т. д. к любви к истине, к добру и т. п. и далее к любви к власти, к богатству и т. д. Понятно, что «ступень» здесь — не более чем образ, может быть, не самый удачный, поэтому выражение «ступень любви» лучше взять в кавычки.
В первую «ступень любви» следует, судя по всему, включить эротическую (половую) любовь и любовь к самому себе. Человеческая любовь, замечает французский философ и теолог Э. Жильсон, обязательно начинается с эгоизма, любви к себе и плотской любви. Эти виды любви — парадигма всякой любви независимо от ее предмета, их следы можно обнаружить едва ли не в каждом ее виде. Примечательно, что когда слово «любовь» встречается без всяких дальнейших определений, можно не сомневаться: речь идет именно об эротической любви.
Вторая «ступень любви» — это любовь к ближнему. Она включает любовь к детям, к родителям, к братьям и сестрам, членам семьи и т. д. Нет нужды говорить о важности и фундаментальности этой любви, являющейся «своего рода школой человечности» (Ф. Бэкон).
Третья «ступень любви» — любовь к человеку, по поводу которой еще в древности было сказано, что она бывает только большая, нет маленькой любви. Любовь к человеку включает любовь человека к самому себе, любовь к ближнему и любовь к каждому иному человеку независимо от каких-либо дальнейших его определений.
Это, в частности, любовь к будущим поколениям и связанная с нею ответственность перед ними. Ведущий принцип такой любви прост: нужды будущих людей столь же важны, как и нужды современных. Каждое поколение должно стремиться оставить следующему поколению все, что оно получило от предыдущего, количественно и качественно не в худшем состоянии, чем оно само имело. О том, как трудно реализовать это пожелание, выразительно говорит расточительность современной экономики, растрачивание ею невозобновляемых природных ресурсов.
В четвертой «ступени любви» — любовь к родине, любовь к жизни, любовь к богу и т. п. О любви к родине и любви к богу речь пойдет далее.
Пятая «ступень любви» — это любовь к природе, в частности космическая любовь, также рассматриваемая далее.
Шестая «ступень» — любовь к истине, любовь к добру, любовь к прекрасному, любовь к справедливости и т. п. Основания объединения этих видов любви достаточно очевидны. В качестве примеров будут рассмотрены любовь к истине и любовь к справедливости, существование которых иногда подвергается сомнению.
Седьмая «ступень» — любовь к свободе, любовь к творчеству, любовь к славе, любовь к власти, любовь к своей деятельности, любовь к богатству, любовь к «закону и порядку» и т. п. В дальнейшем рассматриваются три последних вида любви.
Восьмая «ступень» — любовь к игре, любовь к общению, любовь к собирательству, коллекционированию, любовь к развлечениям, к постоянной новизне, любовь к путешествиям и т. п.
И наконец, последняя, девятая «ступень», которая, собственно, уже и не является «ступенью любви», — влечение к пище, пристрастие к сквернословию, рассматриваемые далее, и т. п.
В этом движении от «первой ступени» любви к ее последней «ступени», от ее центра к периферии достаточно отчетливо обнаруживаются некоторые закономерности, или, лучше сказать, некоторые устойчивые тенденции.
Прежде всего по мере удаления от начала движения уменьшается эмоциональная составляющая любви, непосредственность и конкретность этого чувства.
От «ступени» к «ступени» падает также интенсивность любви, охват ею всей души человека. Эротическая любовь и любовь к детям могут заполнить всю эмоциональную жизнь индивида. Любовь к творчеству или любовь к славе чаще всего составляет только часть такой жизни. Пристрастие к игре или к коллекционированию — только один аспект целостного существования человека, к тому же, как правило, аспект, лишенный самостоятельной ценности.
Уменьшается от «ступени» к «ступени» и экстенсионал любви, охватываемое ею множество людей. Эротическая любовь захватывает каждого или почти каждого. Родину или бога, истину или справедливость любят уже не все. Любовь к славе или к власти — удел немногих.
С уменьшением непосредственности и конкретности любви растет социальная составляющая этого чувства. Она присутствует и в любви к себе, и в любви к детям, но она гораздо заметнее в любви к власти, любви к свободе или к богатству.
С удалением от центра любви все более выраженными и распространенными становятся влечения, полярно противоположные отдельным видам любви. Эротическая любовь не имеет, как кажется, своей ясной противоположности (если не считать такой противоположностью гомосексуальную любовь). Но уже любви к жизни достаточно отчетливо противостоит влечение к разрушению и смерти. Любви к истине еще резче противостоит пристрастие ко лжи, а любви к справедливости — тяга к привилегиям и вообще к несправедливости. Еще яснее противоположность и почти одинаковая распространенность любви к свободе и «неприязни к ней», «бегства от свободы». Наконец, те, кто сосредоточивают явное меньшинство в сравнении со всеми теми, кто считает подобные пристрастия ненужными или даже вредными.
Чем дальше от начала, тем обычно ниже стандартная оценка тех ценностей, на которые направлена любовь. Мы скорее готовы понять и простить крайности эротической любви или любви к жизни, чем крайности стремления к славе или к богатству; равнодушие к красоте извинительнее, чем равнодушие к близким. С удалением от центра любви те ценности, на которые она может быть направлена, становятся все более неустойчивыми, амбивалентными.
Интересен вопрос: насколько соответствует деление видов любви на «ступени», или «круги», генезису данных видов, их возникновению и развитию в ходе человеческой истории? Например, эротическая любовь всегда сопутствовала человеку, в зачатке она есть уже в животном мире, любовь к самому себе почти столь же стара, как и сам человек; но уже любовь к Родине сложилась намного позднее, еще более поздними «изобретениями» представляются любовь к справедливости и свободе и т. д. Однако все это только предположения. С историей разных видов любви слишком много неясного, чтобы можно было ответить на данный вопрос.
4. Эротическая (половая) любовь
Что представляет собой эротическая, или половая, любовь, известно почти каждому по собственному опыту. «Почти каждому», но далеко не всем!
Социологические исследования показывают, что 16% мужчин и 10% женщин сомневаются в том, знают ли они, что такое любовь, остальные в этом вполне уверены. В анкетах обычно говорилось просто о «любви», но опрашиваемые, конечно, понимали, что речь идет о половой любви. Можно отметить, что когда слово «любовь» не сопровождается какими-то уточняющими эпитетами, имеется в виду именно такая любовь.
Удивительны две вещи: есть, оказывается, люди, не представляющие себе, что такое половая любовь, и среди мужчин их почему-то заметно больше, чем среди женщин.
Писателям, и в особенности поэтам, следовало бы, наверное, учитывать, что по меньшей мере каждый десятый их читатель равнодушен к столь популярной в художественной литературе и поэзии теме любви.
Эротическая любовь — одна из основных тем поэзии. Если даже поэт не говорит о такой любви прямо, она обычно оказывается тем общим, пусть вскользь упоминаемым, фоном, который выдает тайный смысл всего стихотворения. Игорь Северянин, провозглашавшийся однажды читающей публикой «лучшим поэтом России», в самом, наверное, известном своем стихотворении «Увертюра» (1915) выражает неподдельный восторг перед жизнью во всех ее проявлениях:
Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо, остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс…
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!
В этом порывистом, восторженном «введении» восклицательных знаков больше, чем строчек. Но задним планом всех земных и даже вселенских порывов автора является все-таки «группа девушек нервных», «острое дамское общество», без которых, как кажется, поэт не мог бы впасть в состояние крайнего экстаза. Жизнь — трагедия, и только эротическая любовь способна превратить эту трагедию в грезу, хотя, может оказаться, и не без элементов фарса.
Каждому шестому мужчине и каждой пятой женщине переживания поэта по поводу того, что интимная близость мужчины и женщины, не освященная любовью, напоминает разврат, покажутся наивными и мало убедительными. А уж восклицание: «Я не могу без тебя, не могу!» может вызвать даже усмешку: такого у нормального человека, и тем более мужчины, не бывает, это всего лишь экзальтация. Тем более что поэт в конце говорит: «А на поверку могу еще как! Выпить мастак и поесть не дурак. Только порою сердечко блажит, главную песню о старом твердит…».
Однако исключения только подчеркивают общее правило. В определенном и очень важном значении эротическая любовь делает человека полноценным: она сообщает ему такие полноту, насыщенность и остроту бытия, какие не способно дать ничто иное.
«Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть, — писал немецкий философ ХIХ в. К. Маркс своей жене. — Ведь та разносторонность, которая навязывается нам современным образованием и воспитанием, и тот скептицизм, который заставляет нас подвергать сомнению все субъективные и объективные впечатления, только и существуют для того, чтобы сделать всех нас мелочными, слабыми, брюзжащими и нерешительными. Однако не любовь к фейербаховскому “человеку”, к молешоттовскому “обмену веществ”, к пролетариату, а любовь к любимой, именно к тебе, делает человека снова человеком в полном смысле этого слова». Как известно, у Маркса были внебрачные дети, но случайные связи не мешали ему до конца своих дней любить свою жену.
Русский философ и поэт В. С. Соловьев считал, что и у животных, и у человека половая любовь есть высший расцвет индивидуальной жизни. Одно это высказывание доказывает наивность распространенного убеждения, будто Соловьев был влюблен единственно в Софию — божественную премудрость. Он, в частности, располагал виды любви в определенную иерархию в зависимости от характерных для них силы чувства и конкретности его предмета.
Эротическая любовь, при всей ее значимости, не охватывает всех других видов любви и не является их последней основой.
Иного мнения придерживался основатель психоанализа З. Фрейд, видевший во всех формах любовных и дружеских чувств, во всех привязанностях (к себе, к родителям, к родине, к профессии, к богу, к добру, к красоте и т. д.) один и тот же сексуальный источник. Идея, что многообразные виды любви — всего лишь результат действия «эротически заряженного поля» человека, отклоненного от своей прямой цели, существенно обедняла любовь и препятствовала исследованию всего спектра ее проявлений.
Учение Фрейда способствовало распространению упрощенного представления будто всякая любовь — это в конечном счете эротическая любовь.
Эротическая любовь не тождественна с сексуальным влечением, она не является простым придатком к последнему. «Любовь столь же основной феномен, как и секс, — пишет психолог В. Франкл. — В норме секс является способом выражения любви. Секс оправдан, даже необходим, коль скоро он является проводником любви».
Легкость секса, отсутствие препятствий обесценивает любовь. Любовь сохраняется и после того, как спадает сексуальное напряжение, как раз это — один из ее критериев. Фрейд обращает внимание на нередкие случаи, когда «мужчина обнаруживает романтическое влечение к высокочтимым женщинам, которые не влекут его, однако, к любовному общению, и потентен только с другими женщинами, которых он не любит, не уважает и даже презирает». Если бы эротическая любовь была чистым желанием физического обладания, ее можно было бы во многих случаях без труда удовлетворить, и любящий не хотел бы быть любимым, что весьма существенно для любви.
Прекрасные описания эротической любви дает художественная литература, и здесь нет необходимости вторгаться в чужую область. Есть, однако, один вопрос, на который должна была бы, как кажется, ответить философия: зачем нужна человеку половая любовь? Однако на этот вопрос, как и на более общий вопрос: зачем вообще человеку нужно любить другого человека, природу, бога, власть, славу и т. д., философия пока ответа не дает.
5. Любовь к себе
Любовь человека к самому себе является предпосылкой его существования как личности и, значит, условием всякой иной его любви. Любовь к себе — это та начальная школа любви (и прежде всего любви к человеку), без овладения элементарной грамотностью в которой остаются недоступными «высокие университеты» любви.
«Человек, любящий только одного человека и не любящий своего ближнего, — пишет американский философ и психолог Э. Фромм, — на самом деле желает повиноваться или господствовать, но не любить. Кроме того, если кто-то любит ближнего, но не любит самого себя, это доказывает, что любовь к ближнему не является подлинной. Любовь основана на утверждении и уважении, и если человек не испытывает этих чувств в отношении самого себя, — ведь Я в конце концов тоже человеческое существо и тоже ближний, — то их и вовсе не существует».
Мысль, что любовь к людям предполагает также любовь к себе, а любовь к себе — любовь к людям, по-видимому, так же стара, как и сама философия. «Любить людей не значит исключать себя, — говорится в древнем китайском трактате “Мо цзы”. — [Любовь к] себе также включает любовь к людям. [Тот, кто питает любовь к людям], также входит в объект любви, поэтому любовь к людям распространяется и на самого любящего людей, [ибо и он тоже человек]. Нужно одинаково любить себя и других людей».
«…Никто не может любить другого, — писал философ Эразм Роттердамский, — если до этого он не полюбил себя — но только праведно. Никто не может никого ненавидеть, если до этого он не возненавидел себя».
Тот, кто пренебрежительно относится к самому себе, не способен ни любить, ни ценить другого. Нужно научиться понимать себя, чтобы обрести способность понимать других, и вместе с тем без понимания других невозможно понять и самого себя. Точно так же обстоит дело и с любовью: чтобы любить других, надо любить себя и, значит, других в себе, но чтобы любить себя, необходимо любить других и тем самым себя в них.
Любовь к себе противоположна, таким образом, эгоизму, с которым ее иногда неправомерно отождествляют.
Эгоизм, или себялюбие, — это жадное внимание к самому себе, предпочтение собственных интересов интересам всех других людей. Проистекая из недостатка любви к себе, эгоизм является попыткой компенсировать такой недостаток. В сущности, эгоизм, делающий человека некритичным, тщеславным и одиноким, унижает и ослабляет его, в то время как любовь, сообщая ему большую независимость — прежде всего независимость от собственных его слабостей и пороков, — делает его более сильным и счастливым. «Кто не питает ненависти к своему себялюбию и всегдашнему желанию обожествлять себя, — замечает французский математик и философ Б. Паскаль, — тот просто слеп. Ведь так ясно, что это желание противно истине и справедливости».
«Я люблю себя» означает «Я люблю себя как человека, как личность, такую же, как и всякая другая личность». Проникнутая разумом, любовь к себе возвышает человека, делает его равным любому иному человеку.
В. С. Соловьев не случайно оценивал любовь как «действительное упразднение эгоизма» и «действительное оправдание и спасение индивидуальности». «Любовь больше, чем разумное сознание, но без него она не могла бы действовать как внутренняя спасительная сила, возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Только благодаря разумному сознанию (или, что то же, сознанию истины) человек может различать самого себя, т. е. свою истинную индивидуальность, от своего эгоизма, а потому, жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь сам любви, он находит в ней не только живую, но и животворящую силу и не теряет вместе со своим эгоизмом и свое индивидуальное существо, а, напротив, увековечивает его».
По мысли Соловьева, наиболее действенное средство преодоления эгоизма — эротическая любовь. Но кажется, что любовь индивида к себе, означающая одновременно его любовь к другим — и в особенности любовь к близким в самом себе, — является столь же сильным противоядием против себялюбия, как и эротическая любовь.
6. Любовь к ближнему
С. Л. Франк выводит любовь к ближнему из общественного бытия человека и считает ее (наряду с эротической любовью) «зачатком истинной любви». Человек по своей природе есть существо социальное, член группы, ему естественно иметь близких, соучастников общей коллективной жизни, как естественно, с другой стороны, за пределами этой группы иметь чуждых или врагов. Чувство принадлежности к некоему коллективному целому, сознание, выражаемое в слове «мы», есть естественная основа всякого индивидуального самосознания, всякого «я».
Принцип «Люби ближнего своего, как самого себя» говорит о справедливости, взаимном уважении прав и интересов близких, признании за ними равной, не более и не менее сильной жизни. Любовь к ближнему — лучшая проверка более общей любви к человеку и лучшая школа такой любви. Немецкий философ Г. Гегель даже полагал, что любовь к ближнему является единственным способом конкретного существования любви к человеку: «Любовь к людям, которая должна распространяться на всех, даже на тех, о ком ничего не известно, кого не знают, с кем не находятся ни в какой связи, эта всеобщая любовь к людям есть пустое измышление, характерное для эпох, не способных обойтись без того, чтобы не выдвинуть по отношению к мыслимой вещи идеальные требования, добродетели и кичиться в этих созданных мыслью объектах своим великолепием, ибо действительность их крайне бедна. Любовь к ближнему — это любовь к людям, с которыми подобно всем прочим вступаешь в отношения. Мыслимое не может быть любимым».
Ссылаясь на данные психоанализа, Э. Фромм относит требование любви к ближнему к важнейшим нормам жизни. Нарушение этого требования — главная причина несчастья и умственной болезни человека. «На что бы не жаловался невротик, какие бы не проявлял симптомы — все они проистекают из его неспособности любить, если под любовью мы имеем в виду способность испытывать чувства заботы, ответственности, уважения и понимания в отношении других людей, желание, чтобы эти другие люди развивались».
В любви к ближнему особое место занимает родительская любовь и любовь детей к родителям.
Материнская и отцовская любовь — два существенно разных модуса родительской любви. Любовь матери к своим детям безусловна.
Интересна идея Фромма, что в каждом человеке есть как отцовская, так и материнская совесть — голос, который повелевает исполнить долг, и голос, который велит любить и прощать других людей и самих себя. Отец в нас говорит: «Это ты должен делать» или «Это ты не должен делать». Он осуждает нас, когда мы поступаем неправильно, и хвалит нас, когда мы ведем себя правильно. Мать говорит в нас совсем другим языком: «Твой отец совершенно прав, когда он тебя порицает, но не надо воспринимать его слишком серьезно. Что бы ты не сделал, ты останешься моим ребенком. Я люблю тебя и прощаю тебя». Высказывания отца и матери иногда кажутся даже противоречивыми, но противоречие между принципом долга и принципом любви, между отцовским и материнским сознанием — это противоречие, заданное человеческим существованием, и нужно признать обе его стороны. Совесть, которая следует только велению долга, является столь же искаженной, как и совесть, которая следует лишь заповедям любви. Внутренний голос отца и внутренний голос матери выражаются не только в отношении человека к самому себе, но и в его отношении к другим людям. Человек может порицать других в соответствии со своей отцовской совестью, но одновременно он должен прислушиваться к голосу матери внутри себя, который встречает любовью все живое и прощает все ошибки.
Русский философ начала ХХ века Н. Ф. Федоров считал любовь к родителям, отцам и матерям (составляющую для детей одно, а не два начала) высшим видом любви и основой человеческого сообщества. Он был поэтом такой любви, отрицавшим ради нее эротическую любовь и любовь к себе, и даже в какой-то мере те отношения между сыновьями и дочерьми, которые выходят за рамки их любви к родителям: «Если задача человеческого рода состоит в знании жизни отцов и в восстановлении ее, то и превосходство каждого последующего поколения над предыдущими будет заключаться в наибольшем знании и служении отцам, а не в превозношении над ними; т. е. каждое последующее поколение будет выше предыдущего; но это превосходство будет заключаться в том, что оно будет больше любить, почитать, служить своим предшественникам, будет жить для них больше, чем они жили для своих отцов, большей же любви последующее поколение не может иметь к предыдущему, как воскрешая его». Воскрешение здесь понимается в буквальном смысле, как акт, возвращающий всех умерших предков к жизни.
Утопия Федорова, опирающаяся на мысль об особой ценности сыновней любви, радикально отличается от всех иных социальных утопий. Последние требуют, чтобы нынешнее поколение и, возможно, ряд последующих посвятили себя переустройству общества для блага человека будущего. Это, так сказать, «любовь к дальнему», любовь к, может быть, более совершенному, но абстрактному и чуждому человеку отдаленного будущего. Такая лишенная конкретности и чувственности любовь не может служить, по Федорову, основой «общего дела» перестройки человека и общества. Твердо можно опираться только на сыновнюю любовь, принеся ей в жертву другие виды любви, и в первую очередь «женолюбие» и «вещелюбие».
При всей важности и целебности сыновней любви для индивида и сообщества, очевидно, однако, что она не является и не может сделаться главной пружиной общественного развития, как не может быть ею и «любовь к дальнему». Любовь к родителям не исключает также других видов любви, конфликт между ними является надуманным и проистекает из преувеличения роли данной любви в жизни индивида и тем более общества. О том, насколько сыновняя любовь гипертрофируется Федоровым, выразительно говорит такое его замечание: поскольку не взаимное влечение будущих супругов, а любовь к родителям решает, быть ли браку, то если жених не любит родителей невесты, он не вправе вступать в брак.
Любовь к ближнему включает не только родственные чувства, но и любовь ко всем тем, кто вошел в нашу жизнь и оказался прочно связанным с нею. Эта любовь распространяется и на каждого человека, с которым мы столкнулись только однажды, мельком и заранее знаем, что никогда больше его не увидим. Мы благодарны ему за то, что он появился в нашей жизни, пусть на мгновение и хотя бы на самом ее краешке.
7. Любовь к родине
Об этом чувстве сказано немало искренних и высоких слов, и чаще всего оно их заслуживает. Это чувство является неотъемлемой частью того железного каркаса, на котором держится здание человеческой жизни и с разрушением которого оно превращается в груду развалин.
Любовь к отечеству — одно из самых глубоких чувств, закрепленное в человеческой душе веками и тысячелетиями. «Знаменье лучшее — за отечество храбро сражаться», — говорил еще Гомер; «Городам, их величию, блеску, совершенству построек дивятся многие, родину же любят все», — это слова Лукиана; «Отчизны голос — голос лучшей музы», — П. Беранже; «И дым отечества нам сладок и приятен», — А. С. Грибоедов; «Нет у человека ничего прекраснее и дороже родины», «Человек без родины — нищий человек», — Я. Колас.
Любовь к родине — один из наиболее отчетливых образцов любви как таковой.
Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники, говорит Цицерон, но все представления о любви к чему-либо соединены в одном слове «отчизна». Какой честный человек станет колебаться умереть за нее, если он может принести этим ей пользу?
Любовь к родине означает любовь к родной земле и живущему на ней народу. Эти две составляющие единого чувства обычно идут вместе, поддерживая и усиливая друг друга. Но случается, что они трагически расходятся: человек любит родину, но не своих соотечественников. Любовь к родине, противопоставленная любви к живым людям, неминуемо оказывается абстрактной и декларативной. И если такой человек восходит на вершину власти, он приносит огромные бедствия своему народу.
В фундаменте диктатуры и тирании всегда лежит противопоставление «высоких интересов» родины (так или иначе отождествляемых диктатором со своими собственными интересами или интересами стоящей за ним узкой группы) интересам якобы недостойного ее народа.
Это хорошо выразил уже Софокл в образе диктатора Креонта, любившего, как ему казалось, родину, но не ее людей, и навлекшего несчастья не только на них, но и на самого себя.
Чешский философ XIX в. Я. Колар был склонен противопоставлять любовь к народу, нации любви к отечеству и ставить первую выше второй: «…Что должен разумный человек любить больше — страну или народ, отечество или нацию? Отечество мы можем легко найти, если даже мы его потеряли, но нацию и язык — нигде и никогда; родина сама по себе есть мертвая земля, чужеродный предмет, это не человек; нация же есть наша кровь, жизнь, дух, личное свойство». Любовь к отечеству, к родным местам кажется Колару слепым естественным инстинктом, присущим не только человеку, но и животным и даже растениям, в то время как любовь к народу всегда облагорожена разумом и образованием: «…многие деревья и цветы с такой привязанностью льнут к своей родине, ее земле, воздуху и воде, что сразу вянут, чахнут и меняются, если их пересадить; аист, ласточка и другие перелетные птицы возвращаются из более прекрасных стран в свою холодную родную землю, в бедные гнезда; многие звери дают себя скорее убить, чем покинуть свою землю, свою территорию, пещеру, свой дом и пищу, а если мы их насильно вырвем из их родных условий жизни и переведем в чужие края, они погибнут от тоски по дому».
Любовь к родной земле как низшая ступень любви к родине больше свойственна, думает Колар, неразвитому человеку, дикарю, не знающему ничего, подобного нации; современный же, развитый и образованный человек выше ставит свою нацию: «Грубый дикарь больше льнет к своей бедной, законченной, наполненной дымом и дурными запахами лачуге и к негостеприимной пустыне, чем образованный человек к своему дворцу и парку. Родина эскимоса, его жены и детей — это большая льдина, плавающая в широком море; льдина качается и наклоняется на грозных волнах, морские бури и морские течения носят ее по широким просторам. Тюлени и морские птицы — все его земляки, рыба и падаль — его пища. Год за годом живет он со своей семьей на этой ледовой родине, яростно защищает ее от неприятелей и любит ее так сильно, что не променял бы ее на самые прекрасные уголки земли. Дикарь знает только землю, которая его родила, а чужеземец и неприятель называются у него одним понятием; весь мир замкнут в границах его страны. Кого же мы должны благодарить за то лучшее и благороднейшее, что мы имеем? Не себя, не нашу землю, а наших предков и современников».
Вряд ли это красочное, но предвзятое описание справедливо. Земляки эскимоса — не одни тюлени и птицы, и любит он не только жену и детей, но и свой народ, пусть небольшой, но народ, с его особыми, только ему присущими языком, преданиями, традициями, надеждами и т. д.
Опрометчиво также утверждать, что у современного человека чувство родной земли слабеет, уступая привязанности к своему народу.
Композитор Сергей Рахманинов и его жена, горячо любившие Россию, оказавшись в Швейцарии, создали под Люцерном некое подобие Ивановки, деревни, в которой они когда-то жили. Но полной замены так и не получилось. Рахманинов любил это место, там к нему вернулась музыка, он после долгого перерыва снова начал сочинять. Но однажды он с тоской проговорился об утраченных родных местах. «Разве это комары? — вскричал он, прихлопнув одного из них. — Они и жалить-то не умеют. Не то, что наш ивановский — вопьется, света божьего не взвидишь».
Писатель Иван Бунин говорил своему секретарю Бахраху: «Сколько русских зачахли на чужбине. От бедности, от болезней? Не знаю, думаю — гораздо больше от тоски по Тверской улице или какой-нибудь нищей деревушке Петуховке, затерявшейся среди полей и лесов…» Из письма Чехова из Ниццы к своей сестре Бунин выписал: «…Работаю, к великой досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чужой стороне за чужим столом неудобно…» Зачитав эту выписку, вспоминает Бахрах, Иван Алексеевич помолчал, глядя на вечереющее небо Граса, и каким-то тусклым, севшим голосом добавил: «Что уж хуже — работать на чужой сторонушке…».
Один русский писатель, живший в эмиграции, вспоминал суждение своего земляка, осевшего волей судьбы в Париже: «А что этот Париж? Ничего особенного. Вот наши края: едешь неделю по болотам, едешь-едешь и никуда не выедешь!»
Пусть и неприметное, но родное, и современному человеку может казаться лучшим, чем хорошее, но чужеземное.
Противопоставление родины и ее народа никогда не приносило и не способно принести добра. Ни в том случае, когда интересы родины ставятся выше интересов народа, ни в том, когда любви к народу отдается предпочтение перед любовью к родной земле.
Чувство патриотизма делает человека частицей великого целого — своей родины, с которой он готов разделить и радость, и скорбь:
Россия, любимая, с этим не шутят,
Все боли твои — меня болью пронзили.
Россия, я твой капиллярный сосудик,
Мне больно, когда тебе больно, Россия.
А. Вознесенский
С особой остротой патриотические чувства вспыхивают, когда на родину обрушиваются тяжелые испытания: «Рану, нанесенную родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца» (В. Гюго). Война, голод, стихийные бедствия сплачивают народ, заставляют забыть все частное и преходящее, отказаться от прежних пристрастий и посвятить все силы одному — спасению родины.
Осенью 1941 г., когда фашистская армада, казалось, неудержимо шла на Москву, Бунин говорил, вспоминая, наверное, недавние революцию и гражданскую войну: «В своем дому можно поссориться, даже подраться. Но когда на нас бандиты идут, тут уж, батенька, все склоки надо в сторону отложить да всем миром по чужакам ахнуть, чтоб от них пух и перья полетели. Вот Толстой проповедовал непротивление злу насилием, писал, что войны нужны лишь власть предержащим. Но, напади враги на Россию, войну продолжал бы проклинать, а всем сердцем за своих бы болел. Так уж нормальный, здоровый человек устроен, и по-другому быть не должно. А русский человек поражен тоской и любовью к отечеству сильнее, чем кто-либо…».
Адмирал Колчак, провозгласивший себя в гражданскую войну «верховным правителем России», признавался, что ему легче было бы умереть от холеры, чем от рук пролетариата. «Это все равно, — говорил он, — что быть съеденным домашними свиньями». Его возлюбленная добровольно пошла за ним в иркутскую тюрьму, а потом провела тридцать лет в лагерях и ссылках, но не отказалась от своей любви даже к мертвому. Она вспоминала, что когда они с Колчаком выехали из Омска, с ними следовал русский золотой запас, оказавшийся роковым для адмирала: двадцать девять пульмановских вагонов с золотом, платиной, серебром, драгоценностями царских сокровищ. Адмирал боялся, что золото попадет в руки иностранцев. За день до ареста он сказал: «Долг повелевал мне бороться с большевиками до последней возможности. Я побежден, а золото? Пусть оно достанется большевикам, нежели чехам. И среди большевиков есть русские люди».
Любовь к своему народу оказалась сильнее острой ненависти к классовому врагу.
Отстаивая свой народ, Моисей, как известно, прекословил самому Богу: «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, Господи! народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога; прости им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты меня вписал» (Исход, 32, 31–32).
Страстное желание служить народу, не оставлять его в годину несчастий может пересилить даже любовь к богу, если между этими чувствами вдруг приходится выбирать.
Плохо, когда человек оставляет другого человека в беде или предает его. Но оставить в беде отечество и тем более предать его — это преступление, для которого нет ни срока давности, ни покаяния, ни прощения.
Любовь к родине менее всего является слепым, инстинктивным чувством, заставляющим бездумно превозносить отечество, не замечая его пороков. Любить родину — значит прежде всего желать ей добра, добиваться того, чтобы она сделалась лучше.
Один из самых замечательных патриотов в истории России, П. Я. Чаадаев, писал: «Больше, чем кто-нибудь из вас, я люблю свою Родину, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа. Наверное, патриотическое чувство, воодушевляющее меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое существование. Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны Родине истиной».
Чаадаева сочли клеветником на свое отечество, объявили сумасшедшим, запретили печататься. Его «Апология сумасшедшего», из которой взят отрывок, была написана в середине 30-х годов прошлого столетия, но в России была опубликована только в начале нашего века.
Мысль, что настоящий патриотизм должен быть пронизан светом критического разума, не всем представляется очевидной.
Любовь к отечеству и теперь нередко отзывается тем притворным хвастовством, которое в России когда-то с иронией называли «квасным патриотизмом». Послушаешь такого квасного патриота, замечал Гоголь, и если даже он чистосердечен, «только плюнешь на Россию!»
Н. Салтыков-Щедрин был горячо, беззаветно предан своей стране. «Я люблю Россию до боли сердечной, — писал он, — и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России». И вместе с тем его отношение к стране и народу было исполнено той трагической двойственности, о которой позднее А. Блок сказал в «Возмездии»:
И отвращение от жизни,
И к ней бездумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне…
Салтыков-Щедрин, хорошо видевший экономическую и политическую отсталость России, не способной воспользоваться огромностью материальных ресурсов и талантами своего народа, создал самую суровую и мрачную в русской литературе картину своей родины. Страсть к отчизне не мешала ему подвергнуть осуждению и осмеянию ее пороки.
Истинный патриотизм чужд и враждебен националистическому высокомерию и каким-либо националистическим предрассудкам.
В одной из пьес Ф. Дюрренматта последний римский император Ромул Августул замечает: «Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной».
Именно по этой формуле сохранения власти действовал Сталин, прибегший к запретному, как тогда казалось, оружию — русскому патриотизму. Вновь потребовались «великие предки»: Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр I, Иван Сусанин, гражданин Минин и князь Пожарский. Сделалось похвальным прославлять отечество, принижать и даже высмеивать другие государства и народы.
К этой кампании безудержного восхваления всего отечественного, советского и разжигания неприязни ко всему заграничному, третируемому как «незрелое», классово и социально отсталое, опрометчиво присоединился и В. Маяковский, не разгадавший ее зловещей сути:
Жирноживотные. Лобоузкие.
Европейцы, на чем у вас пудры пыльца?
Разве эти чаплинские усики не все,
что у Европы осталось от лица?
Здесь можно вспомнить писателя Я. Колара, предостерегавшего от тупого, нетерпимого, кичливого патриотизма, потому что «он часто бывает только предлогом для самых черных поступков».
Любовь к своему отечеству, не соединенная с мыслью о верховенстве общечеловеческой идеи, о равенстве всех народов, безотносительно к уровню их социального и культурного развития, приносит вред в первую очередь самой родине.
«…Нельзя не любить отечество, — писал В. Белинский, — только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но желанием усовершенствования; словом — любовь к отечеству должна быть вместе с любовью к человечеству… Любить свою Родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому».
Об ущербности национального эгоизма и сепаратизма, необходимости соединения национального с общечеловеческим всегда говорила русская литература. «…Нравственные принципы всякого отдельного народа суть принципы общечеловеческие», — пишет Салтыков-Щедрин. В другом месте он говорит: «Идея, согревающая патриотизм, — это идея общего блага.., это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве».
Суть национализма — в признании национальной исключительности и вытекающем из нее противопоставлении данной нации другим. Национализм сводится к признанию «своей» нации «образцовой нацией» или «нацией, обладающей исключительной привилегией на государственное строительство».
Между формально провозглашенным равенством наций и их равенством фактическим почти всегда лежит огромная дистанция. Именно поэтому в каждом, в сущности, многонациональном государстве существуют законы, в силу которых любое мероприятие, проводящее в чем бы то ни было привилегию одной из наций или прав национального меньшинства, объявляется незаконным и недействительным.
Противоположностью национализма являются принижение своей родины и своего народа, своеобразный национальный нигилизм, выставлявшийся в недавнем прошлом чуть ли не естественным следствием интернационализма. «К сожалению, есть силы, — отмечал в одном из интервью писатель Ч. Айтматов, — которые в самом народе, и это часто бывает, отрицают сами себя. Они заняты самооговором. Я называю это национальным нигилизмом. Явление это такое же реакционное, как и сам национализм».
Национальное и общечеловеческое, или интернациональное, — две взаимосвязанные стороны. Без их единства нет мирового процесса развития и сближения народов и наций, составляющих единое человечество.
Сближение наций и преодоление национальных границ — закономерность исторического процесса. В Европе она стала остро ощущаться уже после Первой мировой войны.
«Сегодня каждый “интеллектуал” в Германии, в Англии или во Франции ощущает, — писал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет, — что границы его государства стесняют его, он задыхается в них; его национальная принадлежность лишь ограничивает, умаляет его… Впервые в своей политической, экономической и духовной деятельности европеец наталкивается на границы своего государства; впервые он чувствует, что его жизненные возможности непропорциональны границам того политического образования, в которое он включен. И тут он делает открытие: быть англичанином, немцем, французом значит быть провинциалом».
Это рассуждение, относящееся к концу 20-х годов прошлого века, Ортега подытоживает так: «Европа возникла как комплекс малых наций. Идея нации и национальное чувство были ее самыми характерными достижениями. Теперь ей необходимо преодолеть самое себя. Вот схема грандиозной драмы, которая должна разыграться в ближайшие годы».
Драма произошла, но другого рода — Вторая мировая война, расколовшая Европу на две противостоящие части. В каждой из них шли активные процессы интеграции. Западноевропейские страны стоят теперь перед решающим шагом: экономические связи предполагается расширить и дополнить определенного рода политическим объединением. Сближение европейских стран поставило на повестку дня вопрос о создании единого «европейского дома».
Углубляющиеся и расширяющиеся процессы интеграции европейских стран никоим образом не ставят под сомнение ни их национальное своеобразие, ни их государственный суверенитет.
Здесь можно вспомнить В. С. Соловьева, еще в конце XIX в. изложившего основные условия единения народов и государств: «Определенное различие, или раздельность жизненных сфер, как индивидуальных, так и собирательных, никогда не будет и не должно быть упразднено, потому что такое всеобщее слияние привело бы к безразличию и к пустоте, а не к полноте бытия. Истинное соединение предполагает истинную раздельность соединяемых, т. е. такую, в силу которой они не исключают, а взаимно полагают друг друга, находя каждый в другом полноту собственной жизни… Всякий социальный организм должен быть для каждого своего члена не внешнею границей его деятельности, а положительной опорой и восполнением…».
Теперь, когда многократно возросла зависимость народов и государств друг от друга и стала мрачной реальностью угроза гибели человечества в случае ядерной войны, национальное и общечеловеческое с особой остротой обнаруживают свое внутреннее, неразрывное единство.
Ж. Ренану принадлежит знаменитая формула, раскрывающая суть того, что соединяет людей в одну нацию: «Общая слава в прошлом, общая воля в настоящем; воспоминание о великих делах и готовность к ним — вот существенные условия для создания народа… Позади — наследие славы и раскаяния, впереди — общая программа действий… Жизнь нации — это ежедневный плебисцит».
Нация — это общность крови, языка, столетиями складывавшегося национального характера. Привязанность к своему народу опирается на уважение к его историческому прошлому и унаследованным от него традициям. Утратить свою историю для нации — все равно, что для человека потерять память.
Но нация — не только «наследие славы и раскаяния», она также и прежде всего то, что «делается» и «будет». Это главное в формуле Ренана: нация есть общая программа будущего, вырабатываемая ежедневным голосованием. Прошлое охраняет и поддерживает нацию, но движущей и образующей ее силой является будущее.
«Если бы нация состояла только из прошлого и настоящего, — пишет Х. Ортега-и-Гассет, — никто не стал бы ее защищать. Те, кто спорит с этим, — лицемеры или безумцы. Но бывает, что прошлое закидывает в будущее приманки, действительные или воображаемые. Мы хотим, чтобы наша нация существовала в будущем, мы защищаем ее ради этого, а не во имя общего прошлого, не во имя крови, языка и т. д. Защищая наше государство, мы защищаем наше завтра, а не вчера».
Любовь к своему народу не сводится к уважительному и бережному отношению к общему прошлому. Она предполагает прежде всего заботу о будущем, о реализации той программы «общего дела», которая каждодневно формируется в недрах народной жизни.
Помнить о приоритете будущего над прошлым в существовании нации особенно важно сейчас, когда внимание многих концентрируется главным образом на восстановлении и сохранении исторического прошлого. Коммунистическим режимом нашей отечественной истории было предписано начинаться с октября 1917 года. «Народы, царства и цари» были выброшены на свалку истории, народ оказался отрезанным от собственного прошлого. Исторические корни должны быть, конечно, восстановлены. Но какой бы важной ни была эта задача, нельзя забывать, что ни одна нация, обращенная лицом в прошлое, не способна существовать как устойчивое, имеющее перспективу целое.
8. Любовь к жизни и влечение к смерти
Почти для каждого вида любви можно указать чувство, направленное противоположно и являющееся как бы антиподом любви этого вида. Любви к прекрасному соответствует в этом смысле влечение к безобразному, любви к истине — тяготение ко лжи и т. д.
Ранее, когда речь шла об общих свойствах любви, отмечалось, что из двух противоположных устремлений именно позитивное (оно и называется обычно «любовью») более глубоко укоренено в человеке, чем негативное, что первое является нормой, а второе — отклонением от нее. В дальнейшем эта мысль будет проиллюстрирована на соотношении влечения к добру («любви к добру») и влечения ко злу. Но более яркой иллюстрацией является, несомненно, взаимное отношение влечения к жизни («любви к жизни») и влечения к смерти.
Влечение ко всему мертвому и безжизненному, к разложению и распаду иногда называют «любовью к смерти». Существует ли такое влечение и насколько правомерно именовать его «любовью»?
Если есть любовь к жизни, то разрушение и смерть живого должны, как кажется, вызывать неприязнь и, возможно, даже ненависть. Ведь если есть, например, любовь к славе, то противоположность славы — безвестность оставляет в лучшем случае равнодушным. К славе стремятся многие (особенно те, кто уже почувствовал ее вкус), к безвестности особого стремления нет.
В рассуждениях о любви к смерти есть, таким образом, что-то парадоксальное.
В книге «Духовная сущность человека» Э. Фромм задается вопросом: человек — овца или волк? И противопоставляет друг другу две формы человеческого ориентирования: «синдром роста» и «синдром распада». Первый включает любовь к живому, любовь к человеку и независимости, второй — любовь к мертвому, закоренелый нарциссизм и симбиозно-инцестуальное фиксирование. «Синдром распада» «побуждает человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти». Лишь у немногих людей один из этих синдромов получает полное развитие. Но нет сомнения, убежден Фромм, что каждый человек движется в определенном избранном им направлении: в направлении к живому или мертвому, добру или злу.
В другой своей книге, «Анатомия человеческой деструктивности», Фромм выделяет особый тип «злокачественной агрессивности», именуемый им «некрофилией». В психопатологии этим термином обычно обозначается маниакальное влечение к трупам. Фромм расширяет рамки традиционного понимания этой патологии и понимает под некрофилией довольно широкую область сознательных и бессознательных тенденций индивида, общее направление его ориентации на все мертвое, безжизненное, любовь к смерти в самом широком смысле слова как определяющую черту характера. Проявлением некрофилии может быть интерес к сообщениям о катастрофах, смертях, казнях и подобного рода событиях. Некрофил обычно наводит на окружающих тоску и скуку. Его ориентации консервативны и реакционны, для него прошлое более реально, чем будущее, отношения людей и вещей перевернуты: ему кажется, что не люди должны управлять вещами, а вещи — людьми, «что “иметь” более ценно, чем “быть”, что “мертвое управляет живым”» и т. д. Некрофилия, даже если она не проявляется в поведении достаточно явным образом как агрессивность, выражается в речи, в социально-политической консервативной и реакционной ориентации, даже в предпочтении черного и коричневого цветов ярким и светлым.
Несколько меньше поддается распознанию, вынужден признать Фромм, одна характерная черта некрофильной личности — особый тип безжизненности в разговоре. И дело совсем не в предмете беседы. Очень интеллигентные, эрудированные некрофильные личности могут говорить о вещах, которые, несомненно, представляли бы интерес, если бы не манера повествования. Они остаются спокойными, холодными, отчужденными, их представление о предмете разговора — педантична и безжизненна. Даже о том, что вызывает у таких людей повышенный интерес, — о размышлениях и фантазиях, связанных со смертью, — они говорят неизменно тривиально.
Э. Монтэгю и Ф. Мэтсон в книге «Дегуманизация человека» приводят такой отрывок из интервью психолога с 14-летним подростком, совершившим убийство (он поджег женщину ради того, чтобы заполучить пятьсот долларов): «– Ты хорошо выспался накануне? — Да. — Что же произошло утром? …Ты огорчился после всего, что случилось, ну когда ты плеснул бензин на эту женщину, и она сгорела дотла? — Она не сгорела дотла. — Не сгорела? — Нет. Она жила еще неделю, прежде чем умереть… — Плакал ли ты после того, что произошло? — Нет, сказать правду, я ничего не почувствовал… — Абсолютно ничего? — Да. Я просто забыл обо всем до тех пор, пока они не схватили меня».
Незначительные отклонения от банальной, будничной манеры изложения допускаются некрофильной личностью только для достижения особого эффекта при описании техники убийства: в этом звучит как бы гордость своей «работой», своим профессиональным мастерством.
Как шаг за шагом формируется некрофильная личность и какие факторы оказывают особое воздействие на этот процесс, можно проследить на примере подробно проанализированной биографии Гордона Лидди — организатора известного Уотергейского дела, приведшего к падению американского президента Р. Никсона. В своей автобиографии «Воля», изданной в 1980 г., во время пребывания Лидди в тюрьме, он писал: «В школе ФБР мне больше всего нравились два предмета: огнестрельное оружие и “тактика обороны”. Последнее было не более чем камуфляжем техники убийства с использованием различных приемов военного искусства. Я приобрел множество навыков — мог, например, завладеть оружием какого-нибудь зазевавшегося разини, обхватив его за шею и сорвав в придачу его палец с курка. Я научился убивать людей молниеносно, подчас с помощью простого карандаша, калечить, действовать вслепую и в целом управлять моим телом как “личным оружием” против “уязвимых областей противника”».
Смакуя детали, Лидди рассказывает, как он, начиная с раннего детства, капля по капле вытравлял из себя человека, избавлялся от чувства стыда, от жалости и сострадания. Формирование его характера началось еще в приходской школе, где монахини, добиваясь послушания, неустанно внушали, что высшее благо заключается в беспрекословном подчинении авторитетам. Ежедневная церемония присяги на верность флагу с неизменным ритуалом произвела неизгладимое впечатление на Лидди. Много лет спустя при первых звуках государственного гимна он с трудом подавлял в себе желание вскинуть правую руку в фашистском приветствии. Естественно, что кумиром детских лет для него был Гитлер, чьи выступления он слушал по радио, затаив дыхание, не в силах справиться с внутренней дрожью восторга и благоговения.
Апокалипсис любви: философский очерк о многообразии любви
Любовь является откровением, приносящим человеку новое и, как кажется, единственно правильное видение мира. И одновременно любовь — страшная сила, способная исковеркать и сломать жизнь человека. В большинстве случаев подлинная любовь подобна тяжелой болезни, но болезни, без которой существование человека становится ущербным и неполноценным.<br />
В книге об «откровении любви» охватываются почти все ее виды, начиная с половой любви и кончая пристрастием к ругательствам и к моде. Философско-психологическое исследование любви соединяется с популярным, живым и образным изложением.<br />
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
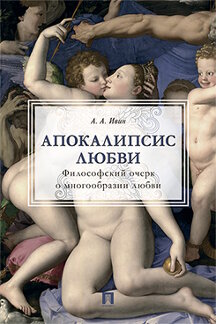
Философия Ивин А.А. Апокалипсис любви: философский очерк о многообразии любви
Философия Ивин А.А. Апокалипсис любви: философский очерк о многообразии любви
Любовь является откровением, приносящим человеку новое и, как кажется, единственно правильное видение мира. И одновременно любовь — страшная сила, способная исковеркать и сломать жизнь человека. В большинстве случаев подлинная любовь подобна тяжелой болезни, но болезни, без которой существование человека становится ущербным и неполноценным.<br />
В книге об «откровении любви» охватываются почти все ее виды, начиная с половой любви и кончая пристрастием к ругательствам и к моде. Философско-психологическое исследование любви соединяется с популярным, живым и образным изложением.<br />
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
|