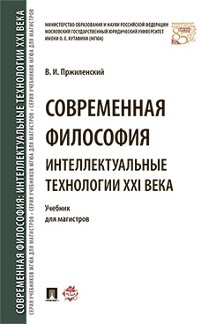|
|
Современная философия. Интеллектуальные технологии XXI века. Учебник
|
|
|
| Возрастное ограничение: |
0+ |
| Жанр: |
Философия |
| Издательство: |
Проспект |
| Дата размещения: |
10.03.2017 |
| ISBN: |
9785392243372 |
|
Язык:
|

|
| Объем текста: |
393 стр.
|
| Формат: |
|
|
Оглавление
Введение
Раздел I. Философия в современном мире
Раздел II. Реальность, знание, язык
Раздел III. Философские проблемы юридического знания
Раздел IV. Человек в лабиринте идентичностей
Заключение
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
Раздел II.
Реальность, знание, язык
В результате изучения материала, излагаемого в разделе «Реальность, знание, язык», обучающийся должен:
— знать основные философские принципы, законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи; пути решения основных проблем философии и онтологии в современной философии;
— уметь понимать характерные особенности современного этапа развития философии; применять философские принципы и законы в юридической деятельности;
— владеть навыками последовательного и целенаправленного осмысления значения философских принципов, законов и категорий применительно к теоретической и практической деятельности.
Глава 1.
Эволюция понятия реальности
1. Вещи, мысли, имена
В современной философии чрезвычайно распространенными являются попытки определения центральной философской проблемы той или иной исторической эпохи. Рождаются разнообразные формулы типа «космоцентризм — теоцентризм — антропоцентризм» или «от субстанции — к функции». В один ряд с ними можно поставить еще одну — «от вещей — к реальности». Действительно, о чем бы ни рассуждали философы в Древней Греции или средневековой Франции, понятие вещи всегда играло совершенно особую, исключительную роль. К нему обращались для того, чтобы выразить трудновыразимое, оно лежало в основе сложных абстракций и умозрений. Его помещали в основание ключевых метафор и аналогий, мысленных экспериментов и всех прочих дискурсивных практик. Наглядно соединяя в себе понятие и представление, вещь как бы являла собой связующее звено между концептуальными конструкциями и здравым смыслом.
Как известно, целью познания является истина. В традиционном понимании истина — это соответствие знания и реальности. Но что такое реальность? Возможно ли дать приемлемую дефиницию данному понятию? Во все времена определение главных категорий доставляло философам немало хлопот. «Реальность» же без преувеличения можно назвать лидером в ряду таких категорий. К началу ХХ в. вокруг данной системообразующей категории сложилась ситуация, которую без преувеличения можно назвать критической. Теоретики возродили забытый спор об универсалиях. Востребованными оказались также такие имена, как «реализм» и «номинализм», прежде относимые к сфере компетенции медиевистов. Ими вновь стали называть собственные точки зрения и целые направления.
Спорившие о природе реальности или о смысле концепта «реальность» не могли не учитывать широкое распространение и частое употребление слова «реальный» в повседневной жизни. Обыденное словоупотребление продуцировало параллельное смыслообразование. Так, к концу ХХ в. появился новый термин — «виртуальная реальность», т. е. «мнимая реальность». Соединение двух понятий (слияние их содержаний, объединение существенных признаков) в данном случае означает лишь «аннигиляцию смысла», по крайней мере с точки зрения классической логики. Не прибегая к тонкостям гегелевской диалектики или изощренным процедурам параконсистентной логики, попытаемся понять, как возможно словосочетание «мнимая реальность», если мы определяем «мнимое» и «реальное» как противоречащие друг другу. Зачем понадобилось изобретать семантическую конструкцию, внешне неотличимую от таких конструкций, представленных словосочетаниями «травоядный хищник», «легкая тяжесть» или «безобразная красота»?
В современной философии, наверное, нет понятий, которые употреблялись бы чаще, чем понятия «реальность», «реальный» или «реалистический». В то же время, пожалуй, нет и более неясных, многозначных и трудноэксплицируемых концептов, чем вышеназванные. Их содержание формируется одновременно и в пространстве строгой теоретической мысли, и в мире обыденного здравого смысла. А значит, они в равной степени несут на себе отпечаток философской интуиции, научной аналитики и повседневного практического смыслообразования. Интуитивное и дискурсивное, теоретическое и практическое задают совершенно различные контексты прочтения смысла для рассматриваемых понятий. Эти содержания, рожденные различными онтологическими допущениями в исследовательской практике, не существуют отдельно. Они постоянно смешиваются друг с другом, подвергаясь при этом деформации и нарушая первоначальное единство смысла и замысла.
Классические рационалистические философские системы и научно-исследовательские программы дали немало положительных и операциональных определений понятия реальности. Их оппоненты — иррационалисты — выстраивали свою аргументацию таким образом, чтобы разрушить саму идею доступности реальности человеческим чувствам и разуму. Но что такое реальность, какое значение и какой смысл имеет для нас это слово, это понятие и это явление?
Для каждого столетия европейской интеллектуальной истории можно выделить свои специфические подходы к пониманию смысла и значения, а также существенные признаки, создающие образ реальности. И каждое столетие знаменует собой наступление новой волны споров вокруг этой фундаментальнейшей мировоззренческой проблемы. При этом споры прежних поколений так и остаются неразрешенными — кто может что-либо разрешить в философии раз и навсегда, — они лишь «теряют свою актуальность» и становятся достоянием истории философии.
Актуальность очередного обращения к проблеме реальности, причем не всей, а лишь одного из ее видов, обусловлена тем, что от операционального понятия и интуитивного образа последней зависит, причем самым существенным образом, весь порядок нашего дискурса, осуществляемого как философскими, так и научными средствами, т. е. наше самоосуществление в качестве рационального существа, познающего мир. Эволюция (или трансформация) порядка дискурса в последние десятилетия вновь проблематизировала, а значит, и тематизировала реальность, в том числе и реальность общества, т. е. социальную реальность.
Необходимо отметить, что проблематизация социальной реальности имеет свою собственную логику. Полтора столетия понимания общества как реальности особого типа не смогли ослабить напряжения, возникающего всякий раз, когда в социальной теории вводится и определяется понятие общества. Это напряжение имеет своим источником принципиальную ненаблюдаемость социального, а значит, и глубоко искусственный, не вырастающий из дотеоретического опыта путь конституирования общества в качестве особой реальности.
Однако искусственность пути вовсе не умаляет ценности нового понимания человеческого общения и взаимодействия, возникшего под влиянием математического естествознания. Рассматриваемое как невещественное, но одновременно с тем и вещественное («реальное» первоначально означало «вещественное»), общество, также как электромагнитное или гравитационное поле в физике, оказалось понятием, обладающим невиданной объяснительной способностью.
С помощью рациональной конструкции, построенной вокруг этой новой «природы», теоретики смогли создать новые модели, объясняющие действия людей. При этом господствовавший ранее способ рассмотрения человеческих поступков на основе этического или морального дискурса оказался в состоянии концептуальной конкуренции с вновь возникшей социологией.
Свершившийся в ХХ в. феноменологический поворот философии от теоретических конструкций к донаучному жизненному миру, естественной установке и проблеме сигнификации в сфере социального познания также имеет особую судьбу. Социальные феноменологи оказались не до конца феноменологами, ибо были вынуждены в значительной степени изменить онтологические допущения и методологические девизы данной философской доктрины. Это обстоятельство по-новому высветило специфику социальной онтологии, показав «непрозрачность» смыслового, а значит, и сущностного сходства социальной реальности с реальностью как таковой.
Сегодня, как и столетие назад, существует немало философов и науковедов, которые не видят смысла в такой «метафизической» постановке вопроса. Позитивисты, прагматисты или натуралисты убеждены в том, что человеческое познание любых объектов внешнего и внутреннего мира не нуждается в «умножении сущностей», к числу которых относились бы любые содержательные высказывания о природе реальности. По их мнению, любой возврат к онтологизму и реализму неизбежно означал бы возрождение тех черт и параметров философствования, которые давно уже преодолены критическим мышлением.
Разумеется, с данной позицией нельзя согласиться. Проблема онтологии, невзирая на все декларации антиэссенциалистов, продолжает сохранять свою актуальность. Вся история очищения философии от «псевдовопросов», редукции к здравому смыслу наглядно показала, что теоретическое мышление всегда содержит в своем основании и концептуальном каркасе совокупность неявных онтологических допущений. И их экспликация должна быть направлена не на то, чтобы элиминировать из системы неаутентичные элементы, а на то, чтобы знать о них как можно больше. Даже если возникновение онтологических допущений оказывается результатом метафорического мышления, они все равно являются необходимым формообразующим фактором теоретического мышления. Необходимо избавиться от иллюзии, что метафорическое может быть полностью элиминировано из концептуальной схемы или заменено рационально-логическим. Совокупность онтологических допущений может быть заменена лишь другой совокупностью онтологических допущений, исходная метафора может быть заменена, опять же, лишь новой метафорой.
Таким образом, реализм как мировоззренческая посылка и познавательная установка не только не устарел; он существенно актуализирован. Как не может оказаться устаревшим и понятие очевидного, скрепляющее веру и разум, рационализм и иррационализм, материализм и идеализм в некие «однокоренные» концептуальные пары. Все это заставляет вновь и вновь возвращаться к одному из наиболее фундаментальных и в то же время дискуссионных понятий, каковым является понятие реальности.
Человек с незапамятных времен интересовался окружавшими его вещами. Откуда берутся вещи, из чего состоят и для чего существуют, куда и почему исчезают и как к ним следует относиться? Эти и другие вопросы задавали себе еще досократики, постоянно сравнивая вещи то с водой, то с огнем, то с числом, то с беспредельным. «Человек есть мера всех вещей в том, что они существуют, и в том, что они не существуют», — утверждает Протагор. По учению Сократа выходит, что существуют не только вещи, но и то, что делает их, например, прекрасными — прекрасное само по себе (прекрасное как таковое).
Платон, уточняя и разрабатывая сократовские интуиции, ввел понятие идеи, которое кажется то противоположным понятию вещи, то выступает по отношению к первому как подчиняющее. Но там, где есть отношение подчинения, там есть и некая единая (для двух понятий родовая) сущность. При этом идеи оказалась похожими на вещи, вернее они-то и стали настоящими вещами (реифицировались). А то, что раньше принимали за подлинные вещи, в соответствии с данной логикой оказалось всего лишь их отражением. И не случайно при описании идей Платон использовал две ключевые метафоры: оптическую и тактильную.
Первая метафора позволяет рассматривать познание идей как припоминание увиденного. Но как можно видеть что-либо бестелесное? По мнению Платона, душа имеет свои собственные «очи», вернее ум способен на свое собственное зрение — «умозрение». А то, что душа способна вспомнить идею, созерцая ту или иную вещь (прекрасную — по подобию, безобразную — по контрасту), заставляет усомниться в том, что о зрении здесь говорится строго метафорически. Для описания того, каким образом познанию становится доступно беспредпосылочное начало, Платон использовал тактильную метафору: его нельзя увидеть, но к нему можно «прикоснуться». Эти две метафоры понадобились основоположнику идеализма для того, чтобы рассматривать идеи как вещи особого рода.
При реконструкции платоновского учения об идеях необходимо учитывать уподобление идей геометрическим фигурам, т. е. тому, что позднее стали называть внешними формами. Не меньшее удивление может вызвать платоновская философия имени. Имя рассматривается Платоном как некая субстанция, находящаяся в зависимости от собственной звуковой формы. Более того, онтологический статус имени по сути тот же самый, что и статус идеи или вещи. Они в одинаковой степени независимы от человеческого произвола, сосуществуют в единой сфере мироздания, взаимодействуя друг с другом «без посредников». Другими словами, они тоже являются вещами особого рода.
Разумеется, эта точка зрения в корне отличается от современной. Сегодня мы склонны полагать, что вещи, имена и идеи образуют три различных вида реальности, т. е. существуют различным образом. И единственным местом, где они могли бы «встретиться», является человеческое сознание. Это вовсе не означает, что имена связаны с вещами и мыслями лишь человеческим произволом.
Во второй половине ХХ в. тезис о социокультурной обусловленности сознания вряд ли нуждается в доказательстве. Мыслящий и действующий субъект, и никто иной, создает для вещей, мыслей и имен единое пространство — пространство человеческой мысли. В таком пространстве можно не учитывать онтологических различий данных объектов.
Сложно для современной интерпретации и учение о различии между актуальным и потенциальным бытием, выдвинутое Аристотелем. Рассуждая о потенциальном бытии материи и формы, т. е. об их вневременном и внепространственном существовании, античный мыслитель вновь воспроизводит проблему вещей, хотя и по-иному сформулированную. Снова и снова приходится задаваться вопросом о том, отличается ли способ существования материй и форм от способа существования вещей. Это же относится и ко многим аристотелевским категориям, например к понятиям «род», «вид» и пр. Об онтологическом статусе общих понятий Аристотель фактически умолчал, породив тем самым многочисленные дискуссии в дальнейшем. Предложенные Аристотелем категории выступают то как категории бытия (метафизические), то как категории познания (гносеологические), то как категории языка (грамматические).
Даже софисты, считавшие, что соединение вещей с именами происходит произвольно, все же понимают имена как сущности, подобные вещам: вещи мы можем видеть, имена — слышать. Лишь стоики разъединяют бытие как таковое с категориями познания и языка. Однако даже стоики не могут выйти за рамки античной парадигмы, ставя ноэтическое содержание высказывания в один ряд с такими реалиями, как «пустота», «время» и «место».
Позднеантичный философ Порфирий был первым, кто всерьез задался вопросом о способе бытия общего, мыслимого как понятие. Он спрашивает об онтологическом статусе родов и видов и задается вопросом: существуют ли они как вещи, или они лишь мысли. Само возникновение этого вопроса может свидетельствовать о наступлении новой эры в западном мышлении. Осуществился выход за пределы того, что Порфирий называет чувственными предметами. Утверждение о существовании каких-либо иных предметов уже нуждается в разъяснениях совсем другого рода, чем те, которые давали Пифагор или Платон. Одними метафорами здесь уже не обойтись. То, что имена и идеи подобны вещам, должно быть убедительно показано, должно стать наглядным. Порфирий так и не дает ответа на поставленный вопрос, лишь обозначая контуры будущего спора об универсалиях.
Начало спору о способе бытия общего положил Боэций, заявивший, что универсалии существуют одним способом, а мыслятся другим. Он четко разделяет два возможных ответа на вопрос, т. е. два смысла утверждения, что универсалии существуют. Первый предполагаемый ответ: универсалии существуют субсистентно (независимо от человека, как и обыкновенные вещи). Суть второго ответа заключается в утверждении, что универсалии существуют лишь в человеческом мышлении.
Однако Боэций отвергает оба ответа, ибо ни один из них не решает поставленной задачи: согласовать концептуальную конструкцию со здравым смыслом. И, не находя иного выхода, он осуществляет рациональную инициативу, идущую вразрез со всей предшествующей традицией. Потенциальное переносится им в область мысли. Мысль тем самым лишается таких характеристик, как произвольность и волюнтаризм, а потенциальное отрывается от актуального и переносится в иную, достаточно автономную сферу. Мышление как бы определяет особый вид бытия, отличный от бытия единичных вещей, обладающий собственной логикой существования.
Почти одновременно с Боэцием Августин создает теорию знака, в которой помимо означаемого и означающего вводится третий элемент — интерпретация. Ее назначение — быть посредником между первым и вторым, т. е. между вещью и именем. Интерпретация связывается с активным, волевым началом. Это в еще большей степени закрепляет разрыв между сферой вещей и миром человеческой мысли.
Спустя несколько столетий, в эпоху схоластики, когда вновь пробуждается интерес к собственно метафизическим проблемам, вопрос о способе бытия общего вновь возникает перед европейскими интеллектуалами. Завязывается знаменитый спор об универсалиях, ставший одним из главных событий в средневековой философии. Его участники подразделяются на тех, кто считает универсалии вещами, и тех, кто называет их именами, звучаниями голоса и пр. Первых называют реалистами, вторых — номиналистами. И среди первых, и среди вторых находятся крайние и умеренные. Несмотря на то, что спор об универсалиях попал во все учебники по истории философии, его действительный смысл по сей день остается трудноуловимым. Отсюда и значительные расхождения в его интерпретации.
2. От «res» к «realitas»: формирование картезианской парадигмы
Ф. Брентано, Ч. Пирс, Б. Рассел и многие другие философы нашей эпохи были убеждены, что спор об универсалиях все еще не решен и не утратил свою актуальность вплоть до ХХ в. Однако наступление эпохи Нового времени знаменовалось утратой интереса к данной проблеме. Это было связано с тем, что понятие вещи оказалось вытесненным другим понятием: речь идет о понятии реальности. На первый взгляд, эта замена не имела сколь-нибудь существенных последствий. На самом же деле переход от «res» к «realitas» самым радикальным образом повлиял на все без исключения стороны философии, став своеобразным водоразделом между интеллектуальными эпохами.
Главное отличие мира, состоящего из вещей, от реальности в том, что реальность есть нечто целостное, некий континуум, в котором вещи являются лишь его фрагментами, помещенными в геометризированное пространство. Как отмечал М. К. Мамардашвили, для перехода от понятия вещи к понятию реальности необходимо было создать совершенно иное представление вещи, в котором она выступала не как нечто самодостаточное, а как фрагмент реальности, определяющийся через причастность к целому. Вещи как будто вывернуты наизнанку в механике Ньютона и в остальных физических теориях.
Традиционно считается, что такое преобразование понятия вещи понадобилось философам для преодоления опиравшейся на Аристотеля схоластической метафизики с ее скрытыми качествами и сущностями, бесконечные споры о которых со временем стали казаться бесплодными. Декарт, утверждавший, что в телах нет ничего, кроме движения, числа и фигуры, просто указывал на удобство такого рассмотрения вещи, т. е. на продуктивность данной гипотезы. Ньютон, уже не называвший это представление о вещах гипотезой, предложил отождествить тела с точками, центрами масс и т. п. За всем этим стояла продуманная стратегия «выворачивания вещей наизнанку», т. е. их операционализация. Декарт, Ньютон, Лейбниц и другие мыслители той поры, постоянно спорившие о пространстве, были едины в том, что именно оно задает образ и структуру реальности. И действительно, благодаря данной новации философы избавились от источника головной боли, без сожаления расставшись с понятием вещи. Лишь спустя два столетия проблема вещей вновь стала казаться актуальной.
Для того чтобы выявить основные рациональные инициативы, сделавшие возможным преобразование мира вещей в реальность, необходимо ответить на вопрос: в чем заключается главное различие между «res» и «realitas»? Сами участники переворота (Декарт, Ньютон, Лейбниц и др.) были едины во мнении, что им удалось обнаружить более удобный способ описания событий и явлений, нежели тот, которым пользовались их предшественники. В пылу эйфории, вызванной духом преобразования, они, судя по всему, не очень заботились об онтологическом статусе геометрических репрезентаций и алгебраических формул. В вещах нет ничего, кроме движения, числа и фигуры, утверждали они.
Итогом явился вопрос об источнике человеческих знаний и представлений о реальности. Знаменитый спор рационалистов и сенсуалистов только тогда и мог возникнуть, когда в центре внимания философов оказались не вещи, а именно реальность. Однако похоже, что они не осознают этого. Лишь «провинциал» Кант не смог полностью отказаться от понятия вещи. Немецкие университеты во многом еще хранили верность традиционной метафизике. Канту даже пришлось вводить специальный термин — свое знаменитое «Ding an sich» — чтобы сделать ясным, что, говоря о вещах, он не имеет в виду феномены, т. е. фрагменты реальности, находящиеся в поле нашего зрения.
Весьма примечательно, как Кант, отвечая на критику и обвинения в солипсизме, определяет свое отношение к реализму и идеализму. Как известно, Беркли разделяет два вида идей: те, которые соответствуют реальным вещам, и те, которые образованы нами самими. Шотландский мыслитель даже называет второй тип идей химерами, полагая, однако, что реальные вещи тоже являются идеями. Эту позицию Кант называет не субъективизмом, а трансцендентальным реализмом или эмпирическим идеализмом. Свое же учение он именует эмпирическим реализмом или трансцендентальным идеализмом, стремясь сохранить вещи и не отторгнуть понятие реальности. Более чем кто-либо до него, Кант делает очевидным подлинный онтологический статус последней, подчеркивая ее «рукотворный» характер. Человеческий разум конструирует реальность благодаря синтезирующему взаимодействию рассудка и ощущений.
Противопоставление реализма номинализму сменилось в Новое время противопоставлением реализма идеализму. Мир вещей, по сути, превратился в мир, состоящий из пространственно-геометрических свойств, что и породило данное противопоставление реального и идеального. Новоевропейское понятие идеи сменило средневековое понятие имени, унаследовав не только функцию последнего, но и значительную долю его содержания.
К числу трудностей, возникших благодаря введению понятия «реальность», необходимо отнести и то, что реальность способна удваиваться. Кант убежден, что следует различать реальность феноменальную и ноуменальную как подчиняющиеся различным логическим законам. Не только Кант, но и остальные философы, независимо от того, можно ли их отнести по ведомству идеалистов или материалистов, субъективистов или объективистов, трансценденталистов или натуралистов (эмпиристов), строили свои рассуждения таким образом, что реальность в них не определялась через другие понятия. Более того, зачастую слово «реальность» в философии той поры используется не как философское понятие, а как средство апелляции к здравому смыслу. Многие философские категории вводились через понятие реальности, в то время как сама реальность определялась как нечто очевидное, как все существующее.
Необходимость уточнения смысла понятия реальности осознавал Гегель, впервые попытавшийся дать историко-генетическое определение данного понятия. По его мнению, философское мышление, переходя от рассмотрения вещей к рассмотрению духа (т. е. самого себя), первоначально приписывает ему те же свойства, что и вещи. Выражаясь языком гегелевской философии, можно было бы сказать, что достоверность разума ищет самое себя как предметную действительность.
Затем, как полагает Гегель, сознание осуществляет переход к иному рассмотрению реальности — рассмотрению через собственную активность. Он убежден, что реальность есть некий феномен, предвосхищающий появление вещей. Для него, как для последовательного идеалиста, нечто, рожденное сознанием, тождественно бытию в том смысле, что природа также рождена идеей. Разумеется, Гегель не заслуживает обвинения в солипсизме, ибо введенные им понятия абсолютной идеи и абсолютного духа, опирающиеся на концепцию панлогизма, не позволяют мыслить вещи как порождение человеческого ума. А его утверждение, что разум есть осознанная достоверность бытия реальности, позволяет нам рассматривать такое понимание реальности как в принципе традиционное. Гегель, как и Кант, четко отличает реальность от действительности. Последняя, как известно, отличается от реальности тем, что в ней совпадают возможность и необходимость.
Может показаться, что эти описанные еще в аристотелевской метафизике «модусы бытия» и составляют ключ к познанию реальности. Достаточно лишь выявить законы или, на крайний случай, принципы, определяющие соотношение возможности и необходимости, и мы знаем все или почти все о реальности. Но с удивительным постоянством проваливались все подобные «метафизические проекты», все более убеждая философов и ученых в несостоятельности самого замысла. Все более распространенной становится формула: реальность принадлежит последним вещам, которые не нуждаются в доказательстве. И тогда проблема реальности все более смещается в область эпистемологии.
Чем бы в действительности не был вызван лозунг «Назад к Канту», но именно неокантианское движение во многом предопределило судьбу понятия «реальность». Реальное противопоставляется идеальному. Эта интуиция, игравшая в кантовской философии заметную роль, практически оказалась забытой в первой половине XIX в. Главные продолжатели дела Канта — Гегель, Шопенгауэр и Конт, каждый по-своему, — лишили данную концептуальную оппозицию того значения, которое она играла в критической философии. Ведь для борьбы с метафизикой Гегель пожертвовал классической логикой с ее запретом на противоречие, Шопенгауэр — аксиомой о том, что универсальное есть закон для всего единичного, а Конт отказался от всего неподдающегося фактической проверке. Их программы, сохранявшие лишь отдельные положения кантовской философии и отвергавшие все остальное, среди прочего отвергли и противопоставление реального идеальному. Лишь возрождение идеи познания как конструирования вновь сделало актуальной проблему реальности.
Концептуальное противопоставление идеального и реального как отголосок платоновского противопоставления идеи и вещи — одна из главных проблем в философии Г. Когена. Крупнейший представитель марбуржской школы привлекает для ее решения понятие бесконечно малой величины. По мнению Когена, это понятие является единственно возможным связующим звеном между идеальным и реальным — ведь оно является неким первоэлементом, не содержащим характеристических особенностей как первого, так и второго. Другими словами, бесконечно малая идеальность тождественна бесконечно малой реальности. И сделав основной единицей анализа данное понятие, Коген привел два качественно отличных феномена к «единому знаменателю».
Следующим шагом марбуржцев становится исключение из концептуального каркаса понятий существования, бытия и даже действительности как понятий, избыточно зависимых от ощущений и опыта. Все эти понятия предлагается заменить на понятие реальности. Следует заметить, что этот проект неокантианцев в сущности схож с проектами Николая Кузанского, Галилея и Декарта. Коген осознает это, полагая, однако, что его построения воспроизводят в области философии то, что вышеперечисленные мыслители сделали в области естествознания.
Реальность как нечто, состоящее из бесконечно малых величин, есть несомненная модификация кантовского понятия «интенсивная реальность». Под интенсивной реальностью Кант понимает прежде всего реальность «внутри ощущения», т. е. неделимую реальность. Ведь в эмпирическом восприятии предмет не дан нам как совокупность раздробленных ощущений. Как полагает Кант, предмет, будучи результатом непрерывного синтеза, всегда является как некое целое, т. е. дает нам реальность в ощущении. Коген видит необходимость в том, чтобы обосновать реальность уже не в ощущении, а в чистом мышлении, т. е. в понятии.
В целом марбуржцы создали сложную и оригинальную философскую систему, содержащую немало продуктивных идей. Среди них не так просто выделить те, благодаря которым понятие реальности приобрело столь важное значение впоследствии. Представляется, что главным здесь все же явилось специфически неокантианское учение о суждении.
Как известно, неокантианцы считали суждение главным инструментом познания. Кант, отдавая должное суждению как форме мышления и создавая свои знаменитые классификации суждений, все же делал их чем-то второстепенным и производным от основоположений чистого разума. Гегель вообще перенес центр тяжести на понятие. А вот Коген строит модель познающего мышления таким образом, что главным ее элементом оказывается именно суждение.
По мнению марбуржцев, вещь не просто творится сознанием. Для осуществления этого акта необходимо использовать средства метафизики и математики. Ведь неокантианцы обосновывают суждение не на основоположениях, а на категориях. Это позволяет им разделить все суждения на четыре вида: суждения законов мышления, суждения математики, суждения математического естествознания и суждения методики. Показательно, что суждения реальности рассматриваются марбуржцами как разновидность суждений математики. Эта, на первый взгляд, совершенно неожиданная новация при дальнейшем рассмотрении выглядит весьма логично.
Согласно точке зрения неокантианцев, реальность определяется не внутренними характеристиками предмета, но только актами его взаимодействия с другими предметами. То есть не вещь сама по себе, а вещь, фактически «растворенная» в свойствах, которые проявляются через взаимодействие. Новое понимание реальности позволило неокантианцам избавиться от понятия «данного». Необходимость обращаться к «данному», т. е. к исходным условиям, являлась главным препятствием на пути к чисто логическому обоснованию науки, так как такое обращение с необходимостью порождало эмпирическую интерпретацию реальности. А это, в свою очередь, вступало в противоречие с исходными посылками неокантианской исследовательской программы. Как в свое время Декарт стремился избавить «subiectum» от любых воспоминаний о греческом «гипокеменон», так и последователи Канта заняты очищением обоснования науки от всего эмпирического.
Но что же такое реальность для неокантианцев? В представлении Когена реальность есть необходимая предпосылка и направление чистого мышления. Раньше мыслили субстанцию как нечто реальное, а науку как метод исследования этой реальности. Неокантианцы же провозгласили реальным сам метод, а субстанцию — лишь его функцией. Такое понимание реальности оказалось чрезвычайно продуктивным в формировании онтологических схем как для естествознания, так и для социально-гуманитарных наук. Фактически, неокантианцы предложили научному сообществу менее обременительный способ участия философии в исследовательской деятельности: философия целиком трансформируется в гносеологию и методологию науки.
3. Возрождение философского реализма
Почти одновременно с неокантианским учением о реальности в европейской философии рождается другое оригинальное учение, получившее название неореализма. Его основоположник Франц Брентано предлагает теорию суждения, которая основывается на отказе от «радикального сомнения» Декарта и скепсиса его последователей. Будучи специалистом по философии Аристотеля и испытав влияние его метафизики, он отвергает субъективизм вообще (и модный во второй половине ХХ в. психологизм в частности) как исходный принцип теории познания.
Брентано подверг критике Дж. Милля и других исследователей, искавших «внутренние источники» интеллектуальной активности, психологические по своей природе. Австрийский мыслитель предложил вернуться к классической дифференциации видов психической деятельности, основывающейся на различном отношении их к объектам. Возрождая средневековое понятие интенциональности (направленности мысли на объект), Брентано получает возможность различать способы, которыми объект дается нашему сознанию.
Как известно, в середине XIX в. господствовали иные классификации суждений, подразделявшие все психические феномены:
1) на укорененные в теле и лишь связанные с ним;
2) на примитивные и те, которые возникают из примитивных;
3) на присущие исключительно человеку и общие для человека и для животных.
Все эти классификации рассматривают психическую активность как автономный от внешнего мира процесс, подчиняющийся своим закономерностям и детерминирующий содержание человеческого мышления, а следовательно, и получаемого с его помощью знания.
Брентано отказывается от них в пользу аристотелевского подхода, различающего психические феномены по способу отношения к объектам. В своем фундаментальном труде «Психология с эмпирической точки зрения» он подвергает психологизм сокрушительной критике. Предвосхищая знаменитый лингвистический поворот в философии ХХ в., Брентано провозглашает главным источником заблуждений естественные языки, как современные, так и древние. По его мнению, в естественных языках представление и суждение обозначается одним и тем же словом. Язык соединяет то, что в действительности может не иметь отношения друг к другу.
В классической теории суждения самым серьезным недостатком является тезис о том, что суждение представляет собой обычное соединение восприятий, представлений или попросту слов. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что суждения могут носить произвольный характер. Ведь способность соединять приписывается человеку и связывается с внешним миром, т. е. реальностью. Отсюда и убежденность Канта в том, что источник человеческих заблуждений не в чувствах и не в рассудке как таковых. Рассудок в точности подчиняется собственным законам, а чувства вообще не судят, полагает он. Заблуждения же возникают по причине незаметного влияния чувственности на рассудок, т. е. благодаря неверным действиям при переходе от восприятий к суждениям.
Брентано отвергает такое представление о суждении, считая его одним из главных источников философских споров не только новоевропейской, но и схоластической философии. Он не солидаризируется со средневековыми реалистами, считая, что они заблуждались не менее номиналистов. Знаменитые споры схоластов о сущности (essentia) и бытии (esse), о бытии сущности (esse essentae) и бытии существования (esse existentae) и других подобных вещах свидетельствуют о неумении справиться с разбушевавшейся стихией, вызванной, по мнению Брентано, всего лишь неумением разобраться в истинной природе суждения.
Для того чтобы устранить указанные проблемы, необходимо, по убеждению основоположника неореализма, считать, что подлинным существованием обладают лишь вещи, их родовое понятие — реальность. Реальное обязательно индивидуально, а объект нашего представления, как не содержащий индивидуализирующего признака (ведь ни внешнее, ни внутреннее восприятие не дает индивидуализирующего признака), не может считаться реальным. Его существование, однако, не является иллюзией, именем, идеальным. Брентано называет такое существование интенциональным.
Главным содержанием брентановского реализма является убежденность в том, что присутствие предмета в мысли (в суждении) способно быть аргументом в споре о его реальности. Любое атрибутивное суждение автоматически предполагает наличие соответствующего экзистенциального суждения. И нет никакого смысла в картезианском или кантианском скепсисе относительно познания вещей, считает Брентано. Они даны нам непосредственно. Но это не те модели вещей, которые изучает математическое естествознание — корреляты свойств и отношений, столь ценимые неокантианцами. По мнению Брентано, они вовсе не столь достоверны, а свойства и отношения даже не обладают реальностью. Лишь сами вещи, «напрямую» данные нашему сознанию, обладают подлинной реальностью и непосредственной очевидностью. В этом суть реистической онтологии.
Еще одну оригинальную концепцию реальности, повлиявшую на последующее развитие философии и науки, предложил основоположник прагматизма и семиотики американский философ Чарльз Пирс. В отличие от Когена и Брентано, он не считал, что спор реалистов и номиналистов завершен, и даже утверждал, что сам является схоластическим реалистом, причем весьма крайнего типа. По мнению Пирса, номинализм характерен не только для сенсуалистов, но и для рационалистов, он является родовой чертой всей новоевропейской философии. Эта позиция позволяет ему считать реальным и законы, открытые в тех или иных науках.
Пирс обосновывает реальность научных законов следующим образом. Закон не может быть просто результатом обобщения, ибо он содержит в себе не только утверждение об уже свершившихся событиях, но и предсказание будущих. Это предвосхищение, рождающее «примесь потенциальности», не может быть выведено из опыта, не содержится в нем непосредственно. Распространение действия закона на будущее предполагает принятие совокупности онтологических допущений, одним из которых является положение о существовании закона in re.
Основоположник прагматизма подробно анализирует все возможные значения понятия «реальность», понимая особую сложность и значимость этого вопроса. Он отмечает, что определение реальности как чего-то независящего от сознания, даваемое с позиций здравого смысла, хотя и является верным, но мало что проясняет.
Для того чтобы осуществить экспликацию данного понятия, Пирс обращается к собственной теории знания как разновидности верования. Дихотомия реального и его альтернативы трансформируется в дихотомию истинного верования (веры в реальное) и ложного верования (веры в заблуждение). Такое перемещение из сферы онтологии в плоскость эпистемологии фактически смягчает сильное утверждение о реальности как об абсолютно независимом от сознания виде бытия. Реальность понимается как объект окончательного мнения членов научного сообщества, как результат достаточного исследования. То есть исследования, обращенного в бесконечность.
Можно видеть, что в пирсовской и когеновской концепциях реальности присутствуют схожие мотивы. Их объединяет обращение к деятельности научного сообщества, одновременно творящей и открывающей реальность (причем деятельности, мыслимой в бесконечности). В противном случае различие между творчеством и открытием стало бы принципиальным. Главным же различием между ними стало то, что Пирс понимал реальность как макрообъект, описываемый средствами созданной им семиотики, а Коген, подобно Галилею, искал геометрические образы реальности.
В чем же заключается специфика семиотического подхода к описанию реальности? Главным отличием является сам способ выражения через знак, а не через образ. И хотя в теории Пирса иконический знак способен содержать наглядный образ, другие виды знаков (индексы и символы) лишены этого свойства. А ведь именно символ признается им знаком в подлинном смысле слова. В нем самом нет ничего, что связывало бы его с объектом, эту функцию выполняет интерпретация.
Разумеется, помимо выделенных трех концепций реальности существовали и многие другие. Однако именно идеи Когена, Брентано и Пирса явились ключевыми в последующем развитии философии и науки. Все три концепции могут рассматриваться как своего рода идеальные типы, сформировавшие генеральные схемы построения онтологий в различных областях науки. При этом проблема дефиниции и экспликации понятия реальности часто отступала на второй план, а само оно рассматривалось как фундаментальное и не нуждающееся в дополнительных разъяснениях. Философы позитивистской ориентации поспешили объявить проблему реальности метафизической проблемой, т. е. псевдопроблемой. С другой стороны, понятия реальности и реализма входят в естественный язык и становятся частью обыденного словоупотребления.
При реконструкции истории понятия реальности нельзя не учитывать и того обстоятельства, что с конца XIX в. философия как бы отделяется от методологии науки, и последняя начинает существовать с высокой степенью автономии. Ученые, не желая доверять столь ответственное дело философам, сами стремятся определить фундаментальные понятия и схемы своей науки. Это обстоятельство порождает потребность в отдельном рассмотрении эволюции понятия реальности в науке.
Как уже отмечалось, развитие философии в XX в. проходило в условиях радикального интереса к языку, вернее к той особой роли, которую, как выяснилось, играет язык в процессе мышления. В этом контексте особый интерес был проявлен к эпистемологической функции языка, а значит, и к отношению языка и реальности.
Дискуссии об онтологическом и эпистемологическом статусе понятия «реальность» велись и в аналитической, и в феноменолого-герменевтической философских традициях. В той или иной степени спорами о реальности оказались затронуты практически все течения современной философии. Как правило, инициаторами этих споров явились философы, продекларировавшие свою приверженность реалистической позиции.
В английской философии начало спору о реальности положила статья Дж. Э. Мура «Опровержение идеализма». В конце XIX в. в Англии господствовали различные идеалистические направления. Некоторые из них, например берклианство, утверждали принципиальную недоказуемость существования внешнего мира, другие же, стремившиеся развивать абсолютный идеализм в духе Гегеля, хотя и не отрицали внешний мир, но истолковывали реальность исключительно как порождение субъекта.
Э. Мур выступил против подобных интерпретаций реальности, подвергнув критике знаменитое положение субъективистов Esse est percipere (быть — значит воспринимать). В специфической манере, позднее ставшей фирменным знаком аналитической философии, он разбирает все возможные следствия этого положения, показывая их несостоятельность. В конце статьи Мур показывает, что наши ощущения не менее достоверны, чем любые сведения о вещах. В более поздних своих статьях Мур несколько трансформировал свою позицию, перейдя от «концептуального реализма» к «реализму здравого смысла». Его тексты содержат тонкий и подчас остроумный анализ значений высказываний о существовании внешнего мира. Мур отвергает кантовский принцип «объективной реальности внешней интуиции» как неспособный что-либо прояснить. Английский философ убежден в необходимости строго различать выражения «вещи вне нас», «вещи внешние нашим сознаниям», «вещи внешние нашим телам» и «вещи, которые должны встречаться в пространстве». Последовательно сравнивая их значения, Мур подводит к мысли о том, что различные концептуальные системы порождают совершенно различные подходы к проблеме реальности. И каждая такая система с необходимостью содержит в себе слабые элементы.
Мур находит выход в возврате к здравому смыслу. Он приводит в качестве доказательства существования внешнего мира свои правую и левую руки, которые он способен показать и назвать. Если после этого признается их существование, полагает Мур, то и существование всего остального можно считать доказанным.
Вся эволюция взглядов Мура, его полемика с Расселом и Витгенштейном свидетельствуют о том, что для рассуждений о существовании внешнего мира оказывается необходимым вновь возвращаться к вещам. Не случайно итогом эволюции взглядов Брентано стал реизм (онтологическая схема, признающая реальными лишь единичные вещи), а некоторые его ученики даже пытались создать язык, полностью состоящий из «имен тел», исключив из него «свойства» и «отношения».
Публикации Мура способствовали рождению нового философского направления — аналитической философии — ставшего затем одним из наиболее влиятельных философских течений XX в. Однако далеко не все его представители оказались реалистами. Просто аналитическая философия сформировала новый способ постановки традиционных проблем, воспроизведя затем прежние концептуальные альтернативы.
В первой половине ХХ в. в Германии возникло два крупнейших реалистических учения: критическая онтология Н. Гартмана и фундаментальная онтология М. Хайдеггера. И Гартман, и Хайдеггер вышли из школы Гуссерля, позднее отказавшись от главных положений феноменологической доктрины. И, каждый на свой лад, попытались преодолеть недостатки как традиционной метафизики, так и новоевропейского гносеологизма.
Философское учение Гартмана, получившее название статического стратификационизма, содержит в своей основе представление о реальности не только единичных вещей, но и жизни, сферы психического, а также духа. Эти феномены различной природы являются, по Гартману, слоями бытия. Фактически все новоевропейские философы, сосредоточенные на гносеологической проблематике, были убеждены, что о самом познании человек знает больше, чем о его предмете. Но познание, заявляет Гартман, является по крайней мере не меньшей загадкой, нежели мир. Ведь познание имеет дело с трансцендентным отношением (т. е. отношением, выходящим за пределы сознания).
Итак, реальный мир дан нам, и его независимое существование очевидно. Эмоциональное отношение к миру не дает нам возможности сомневаться в этом. Желание и воля, сомнения и страх, вожделение и беспокойство — все эти эмоционально-трансцендентные акты служат, по Гартману, лучшим гарантом «несотворенности» реальности. Но познаваема ли она? Ответ Гартмана отрицателен. Бытие неопределимо и необъяснимо, утверждает он. Модальный анализ — ключ к пониманию реальности. Учение о слоях, являющееся стержнем всей философии Гартмана, дает принципиально новое решение дихотомии вещей и идей через новую интерпретацию модальностей. Фактически, немецкий мыслитель повторяет прием Аристотеля, который перевел платоновские идеи в сферу потенциального бытия. Главное отличие замысла новой онтологии видится Гартману в принципиальной невозможности построения метафизики на одном принципе или даже на группе принципов. Развитие современной науки, считает он, не позволяет мыслить мир таким образом.
Созданная Гартманом онтологическая доктрина рассматривает мир как четырехслойную структуру, где каждый из слоев имеет качественную специфику и не может быть редуцируем к другому. Слои соотносятся друг с другом по принципу субординации, образуя систему с четкой и неизменной иерархией. Механизм взаимодействия слоев является сложным и несимметричным.
Слоев всего четыре: неорганический, жизненный, душевный и духовный. Каждый слой имеет свои собственные законы и принципы. Принципы низшего слоя сильнее, высший слой несом низшим. Это положение, формулирующее основы категориальной зависимости, получило у Гартмана название «закона силы». Данный закон не лишает высшие слои автономии. Хотя материальное и является почвой, на которой вырастает жизнь, но морфологическое многообразие живого обусловлено вовсе не свойствами почвы. В этом состоит, по мнению Гартмана, второй закон бытия — «закон свободы». Активность низших слоев неизмеримо больше, но это слепая активность, имеющая минимум свободы. Высшие же слои, напротив, располагают значительно большей свободой. Однако они не обладают собственной активностью, используя активность и силу низших слоев, по сути, направляя ее. Эти два высших слоя (душевный и духовный) существуют лишь во времени, в то время как материальный и витальный обладают еще и пространственным бытием.
Система Гартмана считается уникальной для ХХ в., когда категориальный анализ уже воспринимался как несомненная архаика. Современные философы уже не отваживаются делать какие-либо утверждения о мироздании. Делегировав эту функцию ученым, они видят свою задачу в интерпретации научных знаний или прояснении смысла предложений. На вопрос о том, возможен ли ренессанс гартмановской философии, сегодня не сможет ответить никто. Но пример построения метафизической системы с опорой на данные современной науки интересен сам по себе, ибо свидетельствует о серьезном отношении к понятию «реальность».
Главным недостатком новой онтологии большинство ее критиков считают статический характер системы «слоистого бытия», фактически исключающей из рассмотрения идею эволюции. Закон свободы не объясняет развития и усложнения, его задача — обосновать многообразие.
Отличительной особенностью «фундаментальной онтологии» М. Хайдеггера является радикальное разведение философии и науки. Хайдеггер в своем учении о бытии и реальности не только не стремится опереться на данные современного естествознания, но и считает проект новоевропейской науки бессильным в познании этих вещей. Он резко критикует современную веру в эпистемологические возможности «калькулирующего мышления», утверждая несовместимость научной деятельности с поисками подлинной истины бытия.
Анализировать философские построения Хайдеггера непросто, еще сложнее их интерпретировать. Этот уникальный мыслитель стремился преодолеть не отдельные учения своих предшественников, но целые парадигмы. Как и Гегель, он создавал свой персональный язык, свою неповторимую логику (Dasein-аналитику), необходимую для преодоления прежней традиции.
По всей видимости, Хайдеггер надеялся вернуться к доплатоновскому состоянию философии, заново и на иных основаниях сформировать категориальный строй и сами принципы философствования. Этим обстоятельством было обусловлено и обращение к обыденному, а через него и к архаическому языку, в котором Хайдеггер надеялся найти иные образы и смыслы, получив тем самым новый доступ к бытию, сущему и т. п.
Отправным пунктом всего хайдеггеровского проекта, разработкой которого он занимался главным образом в «Бытии и времени» и «Основных проблемах феноменологии», является онтологическое разделение бытия и сущего. Бытие как таковое, разумеется, есть бытие сущего, однако бытие не есть ничто из сущего, т. е. оно не является сущим. Здесь Хайдеггер возвращается к утверждению Канта о том, что бытие не есть предикат. Но чем же тогда является бытие? Традицией предопределено, что все сущее имеет один и тот же способ бытия — наличие. И на этом основании проводит различие между природой и духом (идеей и вещью, res cogitans и res extensia), которое неспособно выразить различение способов бытия, выражая лишь различение внутри чтойности сущего.
Подлинное разделение способов бытия возможно, по Хайдеггеру, лишь на основе анализа взаимопринадлежности чтойности (essentia, сущности) и способа бытия в аспекте принадлежности и первого, и второго к самой идее бытия. Немецкий мыслитель убежден, что бытие отличается от сущего своей артикулированностью, более того, оно артикулировано не единственным, а многими способами. Он разделяет шесть основных способов бытия: экзистенцию, соприсутствие, подручность, наличие, жизнь, постоянство. Все эти способы настолько отличаются друг от друга, что само единство понятия «бытие» ставится под сомнение. И здесь перед Хайдеггером встает вопрос о реальности как один из важнейших.
Рассмотрение понятия реальности начинается с утверждения о его онтологической взаимосвязи с феноменами, мыслящимися в понятиях «присутствие», «мир» и «подручность». При этом подчеркивается, что реальность нельзя понимать лишь как один бытийный род среди других, необходимо принципиально разобрать проблему реальности, «ее условия и границы».
Как уже отмечалось, философы не едины даже в способе постановки вопроса о реальности. По этому поводу Хайдеггер замечает, что под данным заголовком обычно принято смешивать по смыслу довольно разные вопросы: существует ли нечто «трансцендентное сознанию», может ли быть доказано существование внешнего мира, познаваема ли реальность, и наконец, вопрос о смысле реальности.
Специфика хайдеггеровского прочтения этой последовательности разных, но взаимоувязанных вопросов раскрывается в разделении им проблемы реальности на три части:
1) как проблема бытия (метафизический аспект);
2) как проблема сущего (онтологический аспект);
3) как проблема заботы (экзистенциальный аспект).
Рассматривая первую проблему, Хайдеггер отмечает, что вопрос о существовании внешнего мира или о его доказательстве является одновременно бессмысленным и двузначным. Бессмысленным потому, что сам этот вопрос ставим присутствием как бытием-в-мире. Двузначность же происходит, по мнению Хайдеггера, из-за смешения двух различных вещей: мира как в-чем бытия и «мира» как внутримирного сущего. Вопрос о реальности внешнего мира здесь ставится без предшествующего прояснения феномена мира как такового. Отсюда и возникает смешение действительно доказываемого со способом доказательства и провозглашаемой целью доказательства.
Современная философия. Интеллектуальные технологии XXI века. Учебник
Учебник написан в соответствии с новыми требованиями, содержащимися в рекомендациях Министерства образования и науки Российской Федерации.В центре излагаемого материала находятся проблемы, анализ которых необходим при подготовке к решению специальных профессиональных задач повышенного уровня сложности и имеет фундаментальное значение для формирования навыков правовой аналитики.<br />
Основное внимание уделено новейшим философским средствам и методам анализа явлений правовой и социальной действительности, имеющим непосредственное отношение к профессиональной деятельности юриста. Показана логика и прагматика развития систем научного знания, а также их взаимодействие с правовыми, социальными и культурными системами в стремительно изменяющемся мире.<br />
Рассчитан на слушателей юридических и социально-гуманитарных программ магистратуры, а также всех тех, кому интересны новые философские идеи и их влияние на интеллектуальные и социальные практики повседневной жизни.
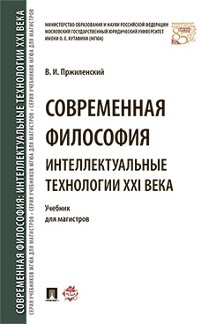
Пржиленский В.И. Современная философия. Интеллектуальные технологии XXI века. Учебник
Пржиленский В.И. Современная философия. Интеллектуальные технологии XXI века. Учебник
Учебник написан в соответствии с новыми требованиями, содержащимися в рекомендациях Министерства образования и науки Российской Федерации.В центре излагаемого материала находятся проблемы, анализ которых необходим при подготовке к решению специальных профессиональных задач повышенного уровня сложности и имеет фундаментальное значение для формирования навыков правовой аналитики.<br />
Основное внимание уделено новейшим философским средствам и методам анализа явлений правовой и социальной действительности, имеющим непосредственное отношение к профессиональной деятельности юриста. Показана логика и прагматика развития систем научного знания, а также их взаимодействие с правовыми, социальными и культурными системами в стремительно изменяющемся мире.<br />
Рассчитан на слушателей юридических и социально-гуманитарных программ магистратуры, а также всех тех, кому интересны новые философские идеи и их влияние на интеллектуальные и социальные практики повседневной жизни.
Внимание! Авторские права на книгу "Современная философия. Интеллектуальные технологии XXI века. Учебник" (Пржиленский В.И.) охраняются законодательством!
|