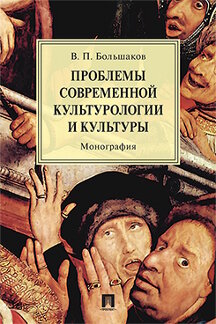|
|
ОглавлениеДля бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуКультура и познание. Наука и культураКогда излагают и теорию и историю культуры, то говорят не только о религии, нравственности, искусстве, но и о науке, о философии. Хотя и не все исследователи, но многие считают, что истина — одна из высших ценностей культуры, что знание, образование — неотъемлемые ее составляющие, что разумность, интеллектуальное развитие — критерии культурности. И все это так, и не совсем так. Ибо в понимание культуры при этом включается то, что присуще скорее цивилизации. Действительно, существует огромная, пронизывающая всю жизнь человека разумного сфера познания. Сфера активности человеческого сознания, без которой немыслимо развитие ни культуры, ни цивилизации. Непосредственная цель познания — знание (практическое действие на его основе — потом). И не любое знание, а истинное, которое и обозначается понятием «истина». Познание — очевидно неприродно; природа сама по себе ничего не познает, для нее нет истины и лжи. Познающий человек осваивает мир, проникая в него и охватывая его мыслью. Он мысленно организует, оформляет и мир и себя в отношении к миру, неживому и живому. При этом познание бывает разным: донаучным, научным и ненаучным, прикладным и фундаментальным, «чистым», не ориентирующимся на непосредственную пользу. Но в любом случае оно способно выполнять и выполняет цивилизующую роль. Без знания, без истинного знания, невозможна цивилизация, разумная организация жизни, общества, человеческих отношений, невозможен рост комфортности жизни, вообще прогресс. Познание — это условие и инструмент цивилизации. Оно полезно, даже если в его процессе не ставится никакой определенной практической цели. Формула средневекового философа Роджера Бэкона «знание — сила» верна. Процесс познания — это поиск истины, которая может быть использована. (Другое дело — кем, как и когда). Другой Бэкон (Френсис), философ Нового Времени, справедливо считал, что чем больше мы знаем, тем больше можем. Благодаря знанию мы в состоянии изменять мир, удовлетворять и развивать свои потребности, и не только витальные, но и духовные. Поэтому несомненно, что познание — это явление цивилизации (во многом рождающее ее), а истинное знание, истина — ее ценность. Но вот является ли познание ( в частности, научное) феноменом культуры? Действительно ли Истина — одна из высших ее ценностей, наряду с Добром, Красотой, Верой? На эти вопросы нет однозначных и простых ответов. Причем ясно, что в тех отношениях, в которых цивилизация и культура совпадают, познание входит в поле культуры. В тех аспектах, в которых цивилизация так сказать обеспечивает бытие и развитие культуры, познание, знание — чрезвычайно ценны. Формы жизни, поведения, отличающие цивилизованного человека от варвара, обычно разумны и основаны на знании. И формы эти в известной мере облагораживают жизнь, окультуривают ее. Однако, культура несводима к цивилизации, а культурность к цивилизованности. И дело не столько в явном практицизме цивилизации и «непрактичности» культуры, сколько в разной нацеленности того и другого. Цивилизация помогает человеку лучше устроиться в этом мире, обеспечить свое (все более и более комфортное) физическое и духовное существование. Культура же является выражением совершенствования самой человеческой природы, становления человека человеком, высоты и тонкости его духовного развития. Культура — это совокупность форм человечности (а не удобства!) бытия, одухотворенности жизни. Это — совокупность ценностей, то есть человеческих отношений, в которых, и в носителях которых, реализуется и оформляется эта очеловеченность, облагороженность. Поставим теперь вопросы так: действительно ли познание представляет собой одну из таких форм, а Истина — одну из таких ценностей? Облагораживает ли познание нас, и если да, то в каких отношениях и до какого предела? Ответы на так поставленные вопросы зависят еще и от того, о каком виде познания идет речь, в каком смысле употребляется слово «истина». Конечно, в наше время уж совершенно очевидно, что невежественный человек — некультурен или малокультурен. Познание, знание, образование, просвещение — все это необходимо для культуры. Но, с другой стороны, столь же очевидно, что познание и само по себе знание чего бы то ни было) не делает человека ни добрее, ни злее, ни благороднее, ни подлее. Познание и знание в общем ценностно нейтральны. Во всяком случае, научное познание, истины науки. Когда шутят, что ученый — это человек, который удовлетворяет свое любопытство за счет общества, то в этой шутке большая доля правды. Такое любопытство ценнее, чем состояние не любознательности, нежелание знать. Но к культуре стремление к знанию, познание имеет отношение только в том случае, если речь идет о знании особого рода, об истине жизни, истине ее смысла, а не о знании фактов. Поэтому, скажем философия, тем менее причастна к культуре, чем более она стремится быть объективной позитивной наукой, строгим и точным знанием о мире. А вот чем более философия озабочена смысложизненной проблематикой, вечными проблемами человеческого бытия и его ценностей, тем более она становится феноменом и выражением культуры, ее языком. Философия, которая ищет человеческие смыслы существования, — пробуждает у человека стремление быть воистину человеком, в том числе и в процессах познания мира, самопознания, самообретения. А просто ученость — это только возможная база для культуры. Знание — необходимо для обогащения духовного опыта, но недостаточно ни для культурности высокого уровня, ни для того, что иногда называют настоящей интеллигентностью. Образованность, интеллигентность, культурностьОб интеллигентности речь пошла потому, что ее, как и цивилизованность, нередко отождествляют с культурностью. А интеллигентными как раз считаются те люди, которые образованы, учены, обладают знаниями разного рода. Интеллигенция по определению — это разумная, образованная, умственно развития часть жителей (В. Даль), общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом. И поскольку таким образом в разряд интеллигенции попадают ученые, учителя, врачи, инженеры, люди искусства и т. д., — постольку кажется, что это — духовно ведущий слой народа, который создает, развивает и распространяет культуру, сохраняет и творит ее ценности. И что поэтому сама интеллигентность (и ее носитель интеллигенция) — неоспоримая ценность культуры. Но ведь те, кого называют интеллигентами, могут находиться на разных уровнях культуры. Так, если у человека (или группы) доминируют потребности материально-вещного комфорта, собственного благополучия, удобства, выгоды, и т. д., то для него естественен низший уровень культуры. Значит важнее, чем облагороженность бытия, оказывается собственная выгода, своекорыстный интерес. И разум, и образование, и умственный труд становятся значимыми прежде всего в этом плане, плане практического использования, выгоды. И хотя, скажем образование, создает богатые возможности для развития культуры, оно само по себе не обеспечивает высокой культурности человека. Как, впрочем, и настоящей интеллигентности. Есть разница не только между образованными и культурными людьми, но и между, так сказать «образовенцией» и интеллигенцией. Ни диплом о высшем образовании, ни самая громкая академическая степень, ни занятия сложной умственной, интеллектуальной деятельностью, не свидетельствуют ни о культурности, ни об интеллигентности. Хотя если хорошее образование действительно получено, то оно может свидетельствовать о высокой степени цивилизованности. Образование, имеющее непосредственное отношение к культуре (как одно из средств ее развития), все же является плодом цивилизации и может оставаться в ее поле, в поле полезности, будучи «инструментом» умственного прогресса но, при этом, не обязательно прогресса духовного. Руссо был прав в том, что сами по себе наука, просвещение, искусство не обеспечивают развития, например, нравственности. Кто-то из великих сказал, что просто хорошо образованный человек — самое скучное существо на свете. Добро бы только скучное! Но ведь образование, даже гуманитарное, не предполагает в человеке ни совести, ни тактичности, ни милосердия. Оно разве что дает знание об этом, и подобном этому, об истинной интеллигентности, о подлинной культуре. То, что называют интеллигентностью, включает в себя образованность, но ее мало. Интеллигент — всегда образован, но образованный человек — не всегда интеллигентен. И далеко не всегда культурен. Образование создает возможность выхода человека на довольно высокий уровень культуры — «специализированный», для которого характерно доминирование интереса к той или иной деятельности, становящейся, в известной мере, самоценной. Образованные люди могут увлекаться познанием, наукой, научно-техническим творчеством настолько, что комфортность, удобства бытия, личная выгода отступают на задний план. Кажется, что в их жизни дух торжествует над грубой пользой, и что эти-то люди действительно в высшей степени интеллигентны и культурны. Такое заблуждение понятно. Ведь это — ученые, изобретатели, учителя, врачи. Они создают и передают духовные ценности, во многом действительно обогащают культуру, живут поисками истины. Но почему тогда говорится о заблуждении? Потому что, как это ни парадоксально, не только те, кого называют интеллигентами, но и те, кто на самом деле таковы — вовсе не обязательно люди высокой культуры. Даже специализированный уровень ее ограничивается, во-первых, самой специализацией. Незабвенный К. Прутков заметил, что специалист подобен флюсу: тот и другой односторонни. Ч.-П. Сноу открыл для всех наличие в культуре якобы «двух культур», т. е. очевидную для ХХ века поляризацию духовного мира (где два полюса олицетворили художественная интеллигенция и ученые: физики, математики, биологи, а также инженеры). Многие английские ученые, например, смущенно говорили ему, что «пробовали» читать Диккенса (и вообще не читали серьезной художественной литературы), а гуманитарии и художники не понимали ни языков науки, ни значения научно-технической революции. Эти проявления цивилизационной неполноты, частичности, проистекали из профессиональной узости сферы деятельности, а отсюда следовала общая духовная ограниченность, неспособность адекватно воспринимать и оценивать те явления и цивилизации и культуры, которые не укладывались в полосу жизненных пристрастий. Однобокость развития человека оказалась в ХХ веке цивилизационно неизбежной, в связи с разделением труда, в том числе и умственного (и творческого). Во-вторых, что гораздо важнее, чем то, что сказано о цивилизации и о чем говорил еще Демокрит: ученость еще никого не сделала хорошим человеком. И не только ученость, но и талантливость и мастерство в любой из сфер деятельности. Это немаловажно, т. к. у человека высокой, полноценной культуры высшего ее уровня, доминирующая потребность — потребность в жизни другого человека, главная ценность — другой, и не абстрактный, а конкретный человек. Конечно, нельзя сказать, что всякий хороший человек — культурен, но полноценная культура предполагает-таки оформленное выявление именно человечности в человеке. Культура на этом уровне выступает прежде всего в таких реализуемых ценностях как совесть, порядочность, милосердие, терпимость, деликатность, вкус, желание и умение понять и «принять» другого человека, другой этнос, другую культуру. Блез Паскаль, писавший о том, что все мироздание не стоит и самого посредственного разума, «... ибо он способен познать и все плотское и самого себя...», недаром дальше заявил: «Все плотское, вместе взятое, и все разумное, вместе взятое, и все, что они порождают, не стоит самомалейшего порыва милосердия». Полноценная культура проявляется в этом и проверяется этим. Не одним порывом и не только порывом, правда, но и умением явить, к примеру милосердие по-человечески оформив его. Важно ведь и то, насколько человек внутренне культурен, и то, насколько органично выражает он свою культуру вовне, в отношении к другим людям, иным культурам. Ни наука, ни образование, ни профессиональные занятия умственным, и вообще творческим, трудом, интеллектуальной духовной деятельностью, — не обеспечивают сами по себе такого уровня культуры, то есть действительной культуры, которая только и есть культура в полном смысле слова. Значит, или тот слой, который обычно называют интеллигенцией, вовсе не обязательно — духовно ведущий слой народа, высококультурный слой населения. Или понятие «интеллигенция» надо понимать, вводя в него дополнительные смыслы и учитывая то, что постоянно путаются «интеллигентность» и «образованность», «культурность» и «цивилизованность». У многих представителей российской интеллигенции есть претензии на то, что они не столько цивилизованы, сколько олицетворяют высший уровень культуры, и призваны учить «как обустроить Россию», духовно возвышать других, и в России и за ее пределами, и, таким образом, служить нуждам народа, содействовать народному счастью, счастью человечества. Большой части этого слоя свойственно то, что С. Булгаков называл: «крайности народопоклонничества и духовного аристократизма». С другой стороны, у русской интеллигенции (хотя не только у нее) заметен и налет утилитаризма. С. Франк считал, что: «русскому интеллигенту чуждо и отчасти враждебно понятие культуры в строгом смысле слова». Потому что, говоря о культуре, у нас постоянно имеют ввиду необходимость ее практического применения, использования. Культура важна, если она служит чему-то, если она — средство, скажем развития политического механизма, народного образования, воспитания, упорядочения общественной жизни. Отвечая этому, Франк справедливо писал о том, что культура не средство, а цель человеческой деятельности, что она не служит совершенствованию человеческой природы, а сама и есть это совершенствование. Представляется, что интеллигентность и культурность в высших проявлениях того и другого — во многом совпадают по реальному содержанию этих понятий. И уж, во всяком случае, в том отношении, что интеллигентность — тоже не средство для чего-то: это состояние, к которому следует стремиться, стремиться быть (а не казаться) интеллигентным. И это так же самоценно, как и культурность человека. А вот познание, знание, образование, просвещение — могут быть и бывают средствами для постижения, сохранения, распространения и развития культуры. И истина, которая есть соответствие знания о действительности — самой действительности, истина (или точнее истины) фактов, столь же служебна в отношении к культуре. Но понятие «Истина» употребляется и в другом значении, в котором и идет речь о ней как о ценности культуры. Истина как культурная ценностьИстина и познание, как ее поиск, являются не только значимыми, полезными, пригодными для человека. Истина — это не только норма познания и жизни. Она — не только должное, в отличие от лжи, что закреплено в библейском «не лги». Поиск истины может быть еще и стремлением мыслителя найти ее как нечто сверхценное, как человеческий идеал. Но что за истина может выступить в качестве идеала? Ведь не любая же! О некоторых истинах сказано: тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. У Сократа был интерес не к таким истинам и не к банальной истине факта, а к истине, сам путь познания которой возвышает человека. Вопрос: что есть истина? — относится к истине такого рода. Будда говорил не о безличных, объективных, а о благородных истинах. Истина, за которую, люди порой готовы отдать жизнь, это не просто «соответствие мысли предмету» (Декарт), не просто то, что, как говорил Вл. Соловьев — есть «в формальном отношении». Она не формально, а по сути касается высот духовного бытия. Это не истина рассудка, количества, счета и расчета, не истина догматиков. Это истина жизненная, та, которую вообще нельзя найти раз и навсегда, а можно только порождать в процессе поиска, в мысли, в действии. И такая истина, и наука ее ищущая, и философия, — принадлежат собственно культуре в смысле их «человекообразующего действия, упорядочивающего жизненный хаос структур». Истина в этом, единственно существенном ее бытии, — одна из высших духовных ценностей, наряду с такими ценностями культуры как Вера, Добро, Красота, Свобода, Любовь и т. д., с которыми она органично связана. Хосе Ортега-и-Гассет, рассуждая о Вере и Истине, писал, что философия пытается искать истину (исследуя сомнение), с тем, чтобы жизнь обрела подлинность, чтобы у человека была убежденность, истинная вера (не обязательно, кстати, религиозная): «Философия не должна доказывать истину на примере жизни, напротив, она должна доказывать истину для того, чтобы наша жизнь обрела подлинность». Вот эта подлинность жизни (не заданная, а создаваемая людьми) выявляется прежде всего как реализуемая истинность Веры, Добра, Красоты в этом мире. Истинность как проявленность действительной, а не фальшивой веры, настоящего Добра, подлинной Красоты, а не их лживых имитаций. Что касается Добра, например, то Вл. Соловьев, исследуя его, стремился: «...показать добро как правду, т. е. единственный правый, верный себе путь жизни во всем и до конца». Ибо он был убежден в том, что вообще нравственность есть путь к истинной жизни, что жизнь добрая и жизнь истинная — это фактически одно и то же. В. Гейзенберг, П. Дирак и многие другие ученые ХХ века были убеждены в родстве красоты и истины. Гейзенберг писал о красоте в точных науках как о предупреждающем сиянии, блеске истины. Дирак утверждал, что красота формулы удостоверяет ее истинность. То есть они видели, что появление красоты как бы свидетельствует об истинности. И это так. И суть состоит в том, что (в этих частных, и в других случаях) истинность порождает ощущение красоты, а это ощущение, эстетический восторг, стимулируют к дальнейшему движению познания. И конечно, истина как ценность культуры живет не в частностях, а в целостном развитии человека, все более и более очеловечивающего и себя и мир вокруг. Человека, постоянно меняющегося и каждый раз определяющего то, — что он есть и чем он будет: «Жить — это постоянно решать, чем мы будем». Ведь «сам мир культуры был изобретен человеком как такой мир, через который человек становится человеком». Истина в этом смысле, которая выступает как «...живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, — называется любовью». А любовь, согласно Вл. Соловьеву, есть действительное упразднение эгоизма. И если познание, наука, просвещение ориентированы на истинность в таком ее понимании, то они обретают смысл культуры высокого уровня, на коем базовой потребностью человека является потребность в жизни другого. Поэтому, если все же остается сомнение в том, что наука — феномен культуры, а не только цивилизации, то оно вызвано, во-первых, тем, что к науке относят зачастую что-то, что по сути ею не является. М. К. Мамардашвили считал, что так называемые прикладные науки — это не науки. Во-вторых, науку противопоставляют культуре еще и потому, что ее достижения могут использоваться против человека, против культуры (атомная бомба, химическое, бактериологическое оружие). Но это, как и то, что сам ученый может быть бесчеловечным, — не аргумент. Ибо, скажем, не отказываемся же мы считать искусство явлением культуры из-за того, что изящный бронзовой статуэткой можно убивать, что в форме близкой к искусству, можно заниматься пропагандой, что даже настоящее искусство можно использовать идеологически нечистоплотно, и что конкретный художник может быть человеком невысокой культуры в целом ряде отношений. В истории есть тьма примеров того, как и искусство, и науку, и философию пытались (и порой небезуспешно!) свести к вещному использованию (дикарскому или цивилизованному). И тогда они выпадали из поля культуры, которая: «...есть владение тем, чем нельзя владеть вещно и потребительски». Культурой можно владеть лишь в том смысле, что реализовать ее в жизни, творить, быть культурным, и внешне и по сути. А это возможно только тогда, когда культура представляет собой вполне органичное единство Веры, Истины, Добра, Красоты. Тогда она реализуется и как Свобода — свобода полного выявления человеком вовне своей внутренней человеческой индивидуальности. Культура и свободаПроблема свободы как ценности жизни человека и общества (народа) существует издревле. И как теоретическая: осмысление того, что же она собой представляет. И как практическая: борьба за свободу. Свобода ощущалась и осознавалась прежде всего как отсутствие принуждения, зависимости от чего-либо. «В таких выражениях, как свободное падение тела, свободная продажа спиртных напитков, свободное самоопределение Чехии, начиная с 1918 г., и т. п., мы имеем дело с понятием свободы, наиболее распространенным, именно с понятием отсутствия зависимости какой-либо деятельности или деятеля от какого-либо условия. Это понятие свободы отрицательное». Но Лосский тут же отмечал, что, будучи свободным от какого-то условия, можно быть не свободным от других. А быть совершенно независимым ни от каких обстоятельств в реальной действительности невозможно. Другое дело, если речь идет о желании, хотении, о так называемой свободе воли. Хотеть можно и того, что никогда не удастся осуществить. Но какой в этом смысл? Как бы объединяя оба момента: преодолимость ограничений, возможность и желание произвести действие, Дж. Кэмпбелл пишет: «Свобода, на мой взгляд, означает состояние человека, способного делать и поступать на основе выбора во всех важных делах». В современных словарях свободу определяют достаточно просто: «СВОБОДА — возможность поступать так, как хочется. Свобода — это свобода воли». В истории человечества слово «свобода» наполнялось разными смыслами и оттенками смыслов. В древней Индии несвобода виделась в привязанности человека к земному миру, зависимости от мира, несущего страдания. Свобода тогда — в избавлении от зависимости, от мирских страстей, ведущих к страданию. В Древней Греции был более социализованный, политизированный взгляд на свободу. Греки гордились своей свободой, в отношении к рабству, свободой, которая, согласно Сократу, представляет собой прекрасное и великое достояние, как отдельного человека, так и целого государства — разумно и справедливо упорядоченного полиса. Позже близкое к этому отношение к свободе и ее понимание развились в Древнем Риме, тоже гордившемся свободой граждан Рима, для которых состояние рабской зависимости было унизительным и немыслимым. Причем в античности (у Сократа) появилось и представление не только о свободе как отсутствии внешней зависимости, но и о внутренней свободе личности, о личной ответственности человека за те или иные действия. В христианском понимании свободы уже очевидно делается акцент на свободе внутренней, свободе духа. Свобода начинает пониматься как свобода выбора (воли), данная человеку Богом. В христианской традиции, и раньше в древности, и позже, чем дальше, тем больше, — свобода (в ее реализации) трактуется то как величайшая ценность, то как антиценность. Как оказалось, то, что называют свободой, нередко является произволом, ведущим к анархии, разрушению нормальной упорядоченности жизни. Для того, чтобы осуществлять насилие, убивать, грабить, пьянствовать, употреблять и распространять наркотики, развратничать, для всего этого и для многих других вредных действий необходимы какие-то степени свободы. То, что люди именуют свободой, может вести и к добру и к злу. В связи с этим, у мыслителей появляется различение негативной (отрицательной) свободы и свободы позитивной. Тем не менее, в Новое время, в Европе и США, на первый план выдвинулось вроде бы позитивное понимание свободы как «свободы от», от ограничений, утеснений. Это было связано с тем, что в жизни явно активизировались «усилия, направленные на завоевание свободы от политических, экономических и духовных оков, которые связывали человека». Капитализм в своем развитии нуждался в активной, критичной и ответственной, свободной личности. Идея свободы стала очень острой, тянущей за собой идею необходимости преобразования человека и его жизни. И свобода начала проявлять постепенно все свои грани, аспекты. И начала рассматриваться как высшая социальная, политическая и духовная ценность. Люди, боровшиеся за свободу свою (своего социального слоя), верили, что борются за свободу вообще. Правда, каждый раз, достижения свободы не были всеобщими. Появлялись новые ограничения. Все же, как считал Э. Фромм, свобода в целом побеждала, стремление к ней нарастало, как и осознание ее ценности. Тяга к свободе выразилась в революционных движениях, в принципах экономического либерализма, политической демократии, отделении церкви от государства. Относительная ликвидация внешнего принуждения казалась достаточным условием для освобождения каждого человека. Но внешнее принуждение вовсе не исчезло, даже наоборот, усилилось в диктаторских режимах после 1-ой мировой войны. И при осмыслении этого, пришло знание того, что, например, в Германии, миллионы люде отказались от свободы с тем же пылом, с которым их отцы боролись за нее. И мыслители задумались над тем: верно ли, что стремление к свободе присуще человеку? Зависит ли оно от условий жизни, уровня культурности? Может ли свобода быть бременем, непосильным для человека, угрозой его существованию? Можно ли, исходить из традиционных представлений о разумности человека и о свободе как познанной необходимости? Ведь идущее от Спинозы понимание свободы как познанной необходимости, в марксизме, например, вылилось в представление о том, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, и что значит свобода целиком зависит от устройства общества. Разумное устройство будто бы гарантирует свободу, такую, при которой человек ощущает себя свободным в рамках, диктуемых разумным общежитием. Но правда ли, что мы ощущаем себя свободными при даже разумном диктате? И в чем его разумность, где его допустимые границы? Эти вопросы выводят к проблеме единства общества и личности, приспособления личности к обществу, установления равновесия между свободой и равенством, необходимости ограничения свободы:»До тех пор пока мы отрицаем априорно такой смысл свободы, как свобода грешить, вредить, ошибаться, мы признаем, что временами свободу необходимо и ограничивать». Одним из условий развития демократии Дж. Кэмпбелл считал установление сложного равновесия между свободой и равенством, сближением свободы и сообщества. Однако, ограниченная свобода — все же не вполне свобода. Человеческая свобода предполагает, что человек «является центром и целью своей жизни, что развитие его индивидуальности, реализация его личности — это высшая цель, которая не может быть подчинена другим, якобы более достойным целям». Ведь ограничения не каждого общества, в котором мы живем, прогрессивны и позитивны. Это во-первых. Во-вторых, на деле человек в любом обществе далеко не всегда стремится к свободе. Мы мучаемся от утеснений, от зависимости. Но получив свободу, часто не знаем, что с ней делать, на что она нам. И не можем ее использовать. И с правами не знаем, на что они. Ведь, скажем, «право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае, если мы способны иметь собственные мысли». Философы экзистенциалисты, а также Ф. Хайек, Э. Фромм и многие другие в ХХ веке показали, что свобода как движение к индивидуализации, ведет к ощущению одиночества, незащищенности, бессилия, нежелательной личной ответственности за себя и за то. что происходит вокруг. Это ведь трудно. И мы «готовы отказаться от собственной личности, либо подчиняясь новым формам власти, либо подстраиваясь под общепринятые шаблоны поведения». А. Зиновьев отмечал, что в советское время было «удобно быть рабами. Быть рабами много проще и легче, чем не быть ими… Когда все рабы, понятие рабства теряет смысл». Но если человек предпочитает отказаться, «бежать» от свободы? Если свобода может вести к злу, бедствиям? Что же тогда это за ценность? Видимо, надо понимать, что свободы абсолютной не существует. В реальности есть ее ограниченные проявления, степени. И тогда, во-первых, есть свобода самораскрытия, самореализации личности, хотя не все люди к этому стремятся. Такое самораскрытие возможно только в обществе (даже если вопреки ему). А в нем требуется уравнивание возможностей разных людей, регулирование степеней свободы. Это, в какой-то мере, дает демократия, которая нужна не для лучшего управления государством (иногда деспотия эффективнее), а в качестве гаранта свободы. Во-вторых, наряду с этим, не бессмысленно представление о безусловной свободе, прежде всего духовной. Влекущей человека, по выражению Э. Фромма, к гармонии бытия, к самостоятельности выбора в действенном стремлении к идеалам. Причем, конечно, вроде бы, бывают разные идеалы, не только идеалы добра, любви, красоты. Но Фромм призывает к тому, чтобы «отличать подлинные идеалы от поддельных; различие между ними столь же фундаментально, как различие между правдой и ложью». При этом, «если индивид изолирован, подавлен чувствами одиночества и бессилия, то именно тогда он стремится к власти или к подчинению, тогда он склонен к разрушительности. Если же свобода человека становится позитивной, если он сможет реализовать свою сущность полностью и без компромиссов, то основополагающие принципы антисоциальных стремлений исчезнут, а опасны будут лишь ненормальные, больные индивиды». Так что речь идет в данном случае не о любой свободе, а о свободе позитивной. А эта позитивная свобода рождается, творится и существует в поле культуры, как ее ценность. Но реализуется эта ценность, как и другие, разно на разных уровнях культурности человека и общества. На низшем, витальном, уровне свобода — это желание и возможность делать то, что хочется. И не делать того. чего не хочется. А хочется того, что содействует сохранению собственной жизни, увеличению ее витальных возможностей. Возможностей обеспечить себе (и своим близким) хорошую, безбедную, безопасную жизнь. Обогащаться, удовлетворять чувственные и не очень высокие духовные потребности, обретая для этого соответствующее положение в обществе. На этом уровне человека вполне удовлетворяет свобода в рамках порядка. Но, поскольку этот уровень граничит с отсутствием культуры, реализация свободы как произвола (если не слишком опасно) допустима и возможна. Когда человек или социальная группа, действуют по принципу: что хочу, то и ворочу, не оглядываясь на то, каково от этого окружающим, окружающей среде. В общем на этом уровне ценно то. что дает свобода. На более высоком уровне ценна сама свобода, свобода самопроявления, самореализации личности. Причем, желательно, свобода не ограниченная. В русском менталитете свободе, ограниченной какими-либо рамками, противопоставляется воля вольная. На этом уровне весьма значима свобода не только от утеснений, но и позитивная ипостась свободы, реализуемая в творчестве. Как считал Н. А. Бердяев: «Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление», что «Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит». Но не все, что и как творится, согласно Бердяеву, есть творчество. Творчество — это созидание, речь идет о положительной творческой мощи. Свобода действия и свобода воли при этом понимаются как тесно связанные. Нельзя сказать, что в данном случае не ценятся, порядок, демократия, которые могут содействовать реализации свободы. Но важна-то свобода, и в ощущении и в реальности. Возможность мыслить, говорить, поступать. как я хочу, как я считаю нужным. Каковы бы ни были последствия моего решения или действия. Ценна свобода сама по себе, прежде всего внутренняя, свобода духа, реализуемая в науке, искусстве, в жизни. Но самоценность даже позитивной свободы обнаруживается, как ни странно, в некоторой отстраненности от смысла свободы как высокой культуры. Творческая свобода бывает абсолютизируемой, утрачивающей связь с подлинной человечностью. На третьем, высшем уровне культурности свобода столь же ценна. Но не ценнее другого человека, других людей. Наиболее ощущаема и реализуема не «свобода от», а так называемая «свобода для», «свобода во имя». Свобода, которая включает в себя принятие ответственности за себя (свои мысли, намерения, действия), за других, за то, что совершается в мире, в нас и вокруг нас. Повторимся: раб не ответствен, поэтому рабом быть, хоть и нехорошо, но удобно. На уровне самореализации свобода «не чиста», ибо самоценна: ответственность может входить или не входить в ее содержание. Но существует ли «чистая», от примесей произвола, безразличия, эгоизма, свобода? М. Мамардашвили утверждал, что: «В мире никогда не будет «чистой морали» или «чистой», бескорыстной любви как реальных психологических состояний. Можно назвать десятки подобного рода вещей, являющихся частью нашего человеческого существования. Но в мире, который гранично очерчен такого рода вещами, они могут случаться». В мире культуры может случаться и «чистая» свобода. И такая свобода — реальна, и противостоит она реальному же бескультурью, которое: «воспроизводится как постоянная тень культуры, потому что саму культуру можно держать лишь на пределе доступного человеку напряжения всех сил. В так называемых чистых или граничных состояниях». Важно помнить, что вот эта граничность, предельность, идеальность — не есть нереализуемость, нежизненность. Более того, нет людей, находящихся на низших уровнях культурности, у которых в отдельные моменты их жизни не могли бы осуществиться предельные состояния. Вспышки любви, совести, что-то от свободы «для», все это возможно, хотя бы в частностях, как исключение. В конкретном человеке и конкретном обществе нет четкого разделения на уровни культурности. В одно время, в одних отношениях человек может проявиться как вполне культурный, в другое время, в других отношениях в качестве менее культурного. Другое дело, что в жизни человека, еще резче в жизни социальных групп, может доминировать что-то, что соответствует определенному уровню культуры. Судить об этом сложно, и надо быть чрезвычайно осторожными в ценностных оценках культуры в разных сферах жизнедеятельности. Внимание! Авторские права на книгу "Проблемы современной культурологии и культуры. Монография" ( Большаков В.П. ) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||