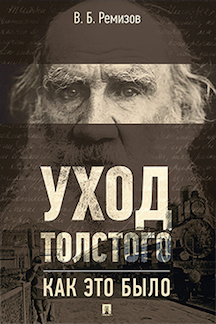|
|
Уход Толстого. Как это было
|
|
|
| Возрастное ограничение: |
0+ |
| Жанр: |
Биографии и Мемуары |
| Издательство: |
Проспект |
| Дата размещения: |
09.06.2017 |
| ISBN: |
9785392254811 |
|
Язык:
|

|
| Объем текста: |
356 стр.
|
| Формат: |
|
|
Оглавление
Перед уходом. «Я отстоял свою свободу»
Уход. «Мы все братья у одного царя»
Вспоминая Астапово
«Я пересолила». Софья Андреевна в Астапове
Из официальной хроники ухода Л. Н. Толстого
Лев Толстой из «Пути жизни»
В поисках бессмертного храма. Виталий Ремизов
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
УХОД.
«Мы все братья у одного Царя»
1910
ТАЙНЫЙ ОТЪЕЗД ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
28 октября. Около 3 часов утра
«Утром, в 3 часа, Л. Н. в халате, в туфлях на босу ногу, со свечой, разбудил меня; лицо страдальческое, взволнованное и решительное. Сказал мне:
— Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать — самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно. Сказав это, Л. Н. ушел к себе наверх.
Я, во-первых, уложил свои вещи, а потом пошел к Л. Н.; с ним встретился за дверьми моей комнаты. Опять он шел со свечой, уже одетый.
— Я вас ожидал, — сказал мне Л. Н.
Слышно было в голосе, что я ему был нужен и опоздал. Л. Н. пошел будить Александру Львовну, а я поспешил в кабинет укладывать его вещи. Белье и некоторые вещи он сам себе приготовил. Вскоре Л. Н. вернулся. Он и ночью покоя не имеет, не высыпается. Нервен. Пощупал ему пульс — 100. Может, что приключится. Пришла Александра Львовна. Л. Н. и ее попросил помочь ему укладывать вещи, особенно рукописи.
Л. Н. был уже одет, и было уже написано письмо Софье Андреевне.
Д. П. Маковицкий. Нач. 1900-х гг. Словакия. Zsolna.
Фотография Rek Matild
Л. Н., поговорив с Александрой Львовной, рассказал ей, что его побудило сейчас уезжать и куда поедет; предполагал в Шамордино; если в другое место, то уведомит ее телеграммой на имя Черткова с подписью Т. Николаев (курсив Маковицкого Д. П. — В. Р.). Л. Н. вскоре вернулся наверх. Вещей, которые Л. Н. брал с собой, оказалось столько, что нужен был его большой чемодан, а его Л. Н. не хотел брать, боясь разбудить Софью Андреевну. Между спальнями Л. Н. и Софьи Андреевны было три двери, которые Софья Андреевна на ночь отворяла, чтобы лучше слышать Л. Н. из своей комнаты. Все эти двери Л. Н. закрыл, чемодан без шума достал.
Вскоре за ним пришла Александра Львовна, и ей Л. Н. дал спрятать рукописи. Л. Н. был встревожен, неспокоен. Искал еще некоторые нужные ему вещи: записные книжки, перо, книгу П. П. Николаева, которую он тогда читал: “Понятие о Боге”, и др. Вскоре сошел вниз и, переговорив с Александрой Львовной, ушел, торопясь в кучерскую, которая была в некотором расстоянии от дома, будить кучера — закладывать лошадей. Еще не было 5 часов утра. Ночь была темная, и Л. Н. заблудился, свернув с дорожки через яблочный сад, потерял шапку. Долго ее искал с электрическим фонарем и не нашел. И так, без шапки, дошел до кучерской, разбудил Адриана Павловича.
Когда мы кончили укладывать вещи, оказалось их очень много: большой дорожный чемодан и еще большая связка — плед, пальто, корзинка. Александра Львовна, Варвара Михайловна и я, мы понесли их на конюшню, чтобы там садиться и ехать, а не от дома, из боязни разбудить Софью Андреевну.
Было сыро, грязно, мы едва несли тяжелые вещи. На полдороге встретили Л. Н. с фонариком. Он рассказал, как потерял шапку; у меня в кармане была другая его шапка».
Из дневника Александры Львовны Толстой
«Долго в эту ночь мы не спали с Варей, все нам казалось, что кто-то ходит, говорит наверху, и мы боялись, что между отцом и матерью что-нибудь происходит. Заснули к утру и, должно быть, не проспали и часа, как слышим стук в дверь. Мы вскочили обе разом. Я подошла к двери, отворила ее.
— Кто тут?
— Это я, Лев Николаевич, я сейчас уезжаю… совсем… Пойдемте, помоги мне уложиться.
— Ты один? — со страхом спросила я.
— Нет, я беру с собой Душана Петровича.
— А, слава Богу, — сказала я облегченно.
Мы наскоро оделись и пошли наверх укладываться. Сердце так билось, руки дрожали, что я все делала не то, что нужно, бралась не за то, спешила…
Я ждала его ухода, ждала каждый день, но, тем не менее, когда услыхала, что он уходит, когда он сказал эти слова: “Я уезжаю сейчас, совсем”, — это было ошеломляющее впечатление. Я никогда, сколько бы мне ни пришлось жить, не забуду его фигуры в дверях, в блузе, со свечой в руках и светлым-светлым лицом, решительным и прекрасным.
Душан Петрович был уже наверху, такой же взволнованный и возбужденный, как и мы все. Он помогал отцу укладывать вещи, так же все ронял, спешил, суетился. Когда я вошла в кабинет, отец совершенно спокойно, аккуратно что-то укладывал в коробочки, завязывая веревкой. Он указал мне на кипу рукописей, которые лежали аккуратно сложенные на стуле, и сказал:
— Вот, Саша, я выбрал все свои рукописи, пожалуйста, возьми и сохрани их. Я и мамá написал, что отдаю их тебе на сохранение.
Лицо его было спокойное, розовое, движения медленные, не было заметно никакой поспешности, и только прерывающийся голос выдавал его страшное волнение.
Я отнесла рукописи к себе, спросила его, взял ли он дневник, он ответил, что взял и просил меня уложить его карандаши и перья. Я хотела уложить его клизму, но он воспротивился, сказав, что это не нужно.
Мы двигались чуть слышно и все время сдерживали друг друга: “Тише, тише, не шумите”. Двери были закрыты, и когда я спросила отца, кто закрыл двери, он сказал мне, что потихоньку, едва ступая, он подошел к спальне матери, затворил ее двери и дверь из коридора.
Художник В. И. Россинский. Толстой сообщает об уходе
— Ты останешься, Саша, я выпишу тебя через несколько дней, когда я решу окончательно, куда поеду, а поеду, вероятнее всего, к Машеньке. Скажи мамá, что нынче ночью была последняя капля, которая переполнила чашу. Когда я засыпал, я, как и каждую ночь, услыхал шаги в кабинете, посмотрел в щель и увидал, что она перерывает бумаги. Мне стало так противно, так гадко. Я лежал, не мог заснуть, сердце билось, я счел пульс, было 97. А потом она вошла и спросила меня про мое “здоровье”. Я всю ночь не спал и к утру решил уйти.
Укладывали вещи около полчаса, отец начал волноваться, торопил Душана, но у нас руки дрожали, ремни не застегивались, чемодан не закрывался.
Наконец отец сказал, что ждать не будет, не может и пойдет на конюшню, чтобы запрягли лошадей. Я сошла за ним вниз, таща уже готовые вещи. Душан Петрович торопился укладывать остальное, Варя готовила провизию им в дорогу. Отец надел свою синюю поддевку, калоши, рыженькую шапочку, рукавицы и вышел. Мы торопливо укладывали остальные вещи. Только что собирались выносить их, как отворяется наружная дверь, и отец без шапки входит назад.
— Что случилось?
— Да такая темнота, зги не видно, я пошел по дорожке, сбился, наткнулся на акацию, упал, потерял шапку, искал ее, искал, не нашел и должен был вернуться обратно. Достань мне, Саша, другую шапку».
Из дневника Александры Львовны Толстой
28 октября
«Прощай, голубушка, прощай… Ну, да мы скоро увидимся»
«Мы с Варей побежали за шапкой, принесли две, отец выбрал самую скромную и опять вышел. (Во время сборов и укладывания вещей меня поражало, что он ничего не хотел брать такого, что было не крайне необходимо, так не взял своего электрического фонарика, и только когда он упал, мне удалось попросить взять его, не хотел брать лекарств, мехового пальто, и только надел его потому, что мы не могли найти полушубка).
Отец вышел, а через несколько минут и мы пошли на конюшню, таща на себе тяжелые связки и чемоданы, было грязно, ноги скользили, и мы с трудом подвигались в темноте. Но вот около флигеля заблестел синенький огонек.
— Ах, это вы. Ну, на этот раз я дошел благополучно до конюшни, и нам уже запрягают, — сказал он. — Ну, я пойду вперед и буду светить вам.
Он пошел вперед, изредка нажимая кнопку у электрического фонаря и тотчас же отпуская ее. Отец всегда жалел тратить произведения труда человеческого понапрасну, а к таким нововведениям относился с особенно большим уважением, и ему жалко было тратить запас электричества. Так подвигались мы, то в полном мраке, то изредка направляемые светом фонаря, который отец, жалея, тотчас же затушевал. Когда мы пришли на конюшню, Андриан, кучер, заводил в дышла уже вторую дышловую лошадь. Отец взял узду и стал надевать ее, но руки не слушались его, и он никак не мог застегнуть пряжки. Он все время торопил кучера, а потом сел в уголке на чемодан и, по-видимому, сразу упал духом.
— Я чувствую, — сказал он, — что вот-вот нас настигнут, и тогда все пропало. Без скандала уже не уехать.
Но вот лошади готовы, кучер оделся, Филя с факелом вскочил на лошадь.
— Трогай.
— Постой, постой, — закричала я, — папаша, дай поцеловать тебя.
— Прощай, голубушка, прощай, ну, да мы скоро увидимся, — сказал он. — Поезжай.
Вид аллеи «Прешпект» от въездных башен. Ясная Поляна. 1903–1905.
Фотография П. А. Сергеенко
Пролетка тронулась и поехала не мимо дома, а прямой дорогой, которая идет садом и прямо на “Прешпект” (название центральной аллеи в Ясной Поляне. — В. Р.).
Все это случилось так быстро, неожиданно, я так [два слова утрачено] вещи и наилучшим образом исполнить то, что он хотел, что я не успела себе отдать отчета в том, что произошло. И тут, стоя в темноте возле конюшни, я в первый раз поняла: уехал совсем, навсегда, и передо мною стала задача, которую нужно было исполнить, которую он хотел, чтобы я исполнила: приготовить мать, успокоить, уберечь ее.
Было около 5 часов утра. Мы с Варей вернулись домой, заперли двери, вошли в кабинет, затворили его, вернулись в свою комнату и тут, считая часы, просидели до восьми часов утра».
Из дневника
Льва Николаевича Толстого
28 октября
[Запись сделана в Оптиной Пустыни. — В. Р.]
В 6-м часу все кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь — глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываясь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони (здесь и далее подчеркнуто мною. — В. Р.)
[В шестом часу 28 октября 1910 г. в сопровождении Душана Петровича Маковицкого Л. Н. Толстой навсегда уехал из Ясной Поляны. — В. Р.]
Художник В. И. Россинский. В каретном сарае
Въездные башни усадьбы Ясная Поляна. 1908. Фотография К. К. Буллы
ЯСНАЯ ПОЛЯНА — ЩЁКИНО
«Куда бы подальше уехать?»
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
28 октября
«…мы поехали на станцию Щекино. Кучер из-за грязи предложил конюху с фонарем ехать впереди прямо на шоссе, но Л. Н. предпочел через деревню.
В некоторых избах уже светился огонь, топились печи. На верхнем конце деревни у Фили развязались поводья. Остановились. Я сошел с пролетки, отыскал конец повода, подал ему и тут посмотрел, накрыты ли у Л. Н. ноги. Л. Н. почти закричал на меня; тут вышли мужики из изб. Выехав из деревни на большак, Л. Н., до сих пор молчавший, грустный, взволнованным, прерывающимся голосом сказал, как бы жалуясь и извиняясь, что не выдержал, что уезжает тайком от Софьи Андреевны, и рассказал о толчке, побудившем его уехать: Софья Андреевна опять входила в его комнату; он не мог заснуть; решил уехать, боясь нанести ей оскорбление, что было бы ему невыносимо. Потом Л. Н. задал вопрос:
— Куда бы подальше уехать?
Я предложил в Бессарабию, к московскому рабочему Гусарову, который там живет с семьей на земле… “Только туда долго ехать, — прибавил я, — не из-за расстояния, а из-за медленного хода поезда и сообщения”. Л. Н. ничего не ответил. Гусарова и его семью хорошо знает и любит.
По пути в Щекино голова у Л. Н. озябла, а я надел ему вторую шапку поверх первой.
Л. Н. вспомнил, что в “Утренней звезде” есть его письмо к священнику с ответом священника. Удивлялся, как это напечатали, — смело. Было бы хорошо оттуда перепечатать в газеты».
Художник В. И. Россинский. Толстой и доктор Маковицкий едут в пролетке на станцию «Щекино»
Из письма протоиерея
Дмитрия Егоровича Троицкого Л. Н. Толстому
22 октября 1910 г.
«…Ваше положение работать над собою к уничтожению грехов и пороков есть и мое положение. Я работаю над собой в этом смысле — или, по крайней мере, желаю работать — во всю мою жизнь. Но сработал ли что в своей душе, подвинулся ли вперед хотя на черепаший шаг, сказать не могу: об этом скажет Бог. Поэтому и не могу быть спокойным о содеянных мною добрых, но о содеянных мною злых беспокоюсь, даже страшусь, тем более что когда почувствуешь в себе, что поборол в себе какой-либо грех, шагнул вперед, тотчас является в душе другая язва греховная, горшая первой, самоодобрение, самопохваление, самоуспокоение, и новая труднейшая работа изгнать её, очистить душу от этой первейшей скверны… Нет труднее работы, как бороться с врагом собственным, внутри себя, и нет сил победить этого врага.
…Скорбно и страшно чувствовать свою слабость в борьбе с греховностью, но как отрадно видеть в других смиренно-религиозное состояние душ. Таковое постоянно вижу в своих религиозно настроенных прихожанах и вообще в православно-русском народе. Какой победный мир царит в душах их, какое смирение, какая молитва, какая вера, надежда и любовь! Вижу и уверен, что они, взирая на Христа распятого, поработали над собою, поборолись с греховностью, и их ждёт окончательная победа и соединение с Богом по смерти. О такой высоте добродетелей своих единоверных и близких я возвещаю всем — всем, ревнующим о внутреннем Царствии Божием. И не одни несмысленные младенцы, не одни тёмные люди, вроде якутов, но и люди даровитые и истинно интеллигентные: врачи, педагоги, юристы, люди с высшим образованием и положением, всех возрастов и состояний, — все купно составляют как бы единый сосуд Царствия Божия…».
Из ответного письма Льва Николаевича Толстого протоиерею Д. Е. Троицкому
23 октября 1910 г. Ясная Поляна
«Получил ваше доброе письмо, Дмитрий Егорович, и благодарю за него. Совершенно согласен с тем, что смирение есть величайшая и необходимая добродетель. Как я всегда говорю, человек подобен дроби, в которой знаменатель определяет его мнение о самом себе. Самое лучшее, когда знаменатель этот ноль (полное смирение), а ужасно, когда знаменатель этот возрастает до бесконечности. В первом случае, каков бы ни был знаменатель, он имеет действительное значение, во втором же случае — никакого.
Посылаю вам книги “На каждый день”, в которых на 25-е число вы найдете мое мнение об этой величайшей добродетели. Одно, с чем не согласен с вами, это то, чтобы в признании своего несовершенства и ничтожества надеяться на внешнюю помощь, а не на то внутреннее усилие, которое не должно никак ослабевать и которое одно приближает хотя немного к совершенству или хотя избавляет от порочности: Царство Божие силою берется. Еще раз благодарю вас за доброе письмо и братски приветствую».
ЩЁКИНО
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
28 октября. Раннее утро
«Решили, что на станции Щёкино я узнаю поезда и есть ли сообщение в Козельск. Л. Н. сказал, что поедет в Горбачево во втором, а дальше в третьем классе, и предложил ехать на Тулу и оттуда вернуться.
Приехав в Щёкино (оказалось, до отъезда поезда в Тулу — 20 минут, в Горбачево — полтора часа), Л. Н. вошел первым на станцию, я с вещами после, и он прямо спросил буфетчика, есть ли сообщение в Горбачеве на Козельск. То же самое спросил и в канцелярии дежурного. Л. Н. позабыл не выдавать, куда едем; потом еще спрашивал, когда опять идет поезд на Тулу, и предлагал в него сесть. […] Я отсоветовал ехать в Тулу, так как не успеем там пересесть. Я купил билеты в Горбачево. Думал брать на другую станцию, но было неприятно лгать, да и казалось бесцельным, потому что предполагал, что удержать в тайне местопребывание Л. Н. не удастся. […] Когда подали сигнал, что поезд подходит, Л. Н. был в 400 шагах от вокзала, гулял с мальчиком-учеником. Я побежал ему сказать и предупредить, чтобы он не спешил, что поезд будет стоять четыре минуты. Л. Н. сказал:
— Мы вместе с мальчиком поедем».
Письмо Льва Николаевича Толстого А. Л. Толстой
«Щёкино, 6 часов утра, 28 октября 1910 г.
Доехали хорошо. Поедем, вероятно, в Оптину. Письма мои читай. Черткову скажи, что если в продолжение недели, до 4 числа, не будет от меня отмены, то пусть пошлет заявление в газеты о праве (в заявлении Толстой писал: “Считаю необходимым печатно заявить, что никакие права на издание моих сочинений не подлежат продаже”. — В. Р.). Пожалуйста, голубушка, как только узнаешь, где я, а узнаешь это очень скоро, — извести меня обо всем: как принято известие о моем отъезде, и всё, чем подробнее, тем лучше».
ТОЛСТОЙ В ДОРОГЕ
ЩЁКИНО — ГОРБАЧЕВО
28 октября. 7 часов 55 минут утра
[Поезд № 9 отправился от станции Щёкино в сторону Горбачева (узловая станция Московско-Курской и Рязано-Уральской железной дороги). — В. Р.]
Из дневника
Льва Николаевича Толстого
[Запись сделана в Оптиной Пустыни. — В. Р.]
Но вот сидим в вагоне, трогаемся, и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне.
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
«Л. Н. сел в отдельном купе в середине вагона второго класса. Вынув подушку, я устроил так, чтобы Л. Н. прилег.
Когда Л. Н. уселся в вагоне и поезд тронулся, он почувствовал себя, вероятно, уверенным, что Софья Андреевна не настигнет его; радостно сказал, как ему хорошо. Я ушел. Л. Н. остался сидеть. Когда я через полтора часа заглянул в купе, Л. Н. еще сидел; он немного поспал; спросил “Круг чтения” почитать. Его не оказалось, и “На каждый день” не было.
Тревожна и утомительна была вчерашняя поездка наша верхом с Л. Н. […] В этот день проехали около 16–18 верст, как и всегда, с тех пор, как вернулись 24 сентября из Кочетов. Раньше Л. Н. делал концы в 11–14 верст, а в последнее время больше. Мне казалось, что, с одной стороны, он наслаждался красивой осенью, с другой — желал быть дольше на свободе вне дома. И Л. Н. уезжал из дома утомленным, невыспавшимся. Кроме того, он был последние четыре месяца в напряженном, нервном состоянии. Чаша терпеливого страдания переполнялась часто.
Я согрел кофе, и выпили вместе. После Л. Н. сказал:
— Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.
Прогулка верхом. Окрестности Крекшина. Сентябрь 1909 г.
Фотография В. Г. Черткова
Вид на дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне
со стороны среднего пруда. 1900.
Фотография С. А. Толстой
Л. Н. Толстой в кругу семьи на площадке перед домом.
Ясная Поляна. 1892. Фотография фирмы «Шерер, Набгольц и Ко».
Слева направо: Михаил, Л. Н. Толстой, Ванечка, Лев, Александра,
Андрей, Татьяна, Софья Андреевна, Мария
Прошлые разы, когда Л. Н. ездил в Кочеты, он в вагоне диктовал или записывал. На этот раз — нет; сидел, задумавшись. Потом заговорил о том, о чем говорил в пролетке».
ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ТЕЛЯТИНКИ
Толстая Александра Львовна — В. Г. Черткову
28 октября. Ясная Поляна
«Владимир Григорьевич,
Отец уехал сейчас утром в 5½ часов, куда не знаю, с Душаном Петровичем. Пришлите Булгакова, сообщу подробно».
Письмо Владимира Григорьевича Черткова А. Л. Толстой
28 октября 1910 г. Телятинки
«Милая Александра Львовна, не могу сказать вам‚ как меня обрадовала‚ до слез обрадовала ваша записочка об уходе Льва Николаевича. Не сомневаюсь в том‚ что сделал он это теперь не “для себя”‚ а потому что по совести убедился в том‚ что это был единственный праведный для него исход. А потому уверен‚ что это будет лучше всего для всех, в том числе и прежде всего для несчастной Софьи Андреевны. И по той же причине‚ что бы ни случилось‚ как будто вызванное этим его поступком‚ хотя бы‚ по-видимому‚ и самое нежелательное‚ — все будет к лучшему. Побуждение его было хорошее. Он достаточно долго откладывал‚ боясь совершить этот шаг не по самому лучшему побуждению‚ для того‚ чтобы мы могли быть уверены‚ что ушел он теперь под влиянием самого чистого от эгоизма‚ неотразимого побуждения.
Но вас мне пока очень жаль. Очень должно быть вам тяжело, во-первых‚ не быть с ним в настоящую минуту‚ а, во-вторых‚ быть в настоящую минуту с вашей матерью. Но вот понаедут ваши сестра и брат‚ и тогда вам, вероятно, возможно будет поспешить к нему. А пока он‚ очевидно‚ боялся оставить Софью Андреевну без кого-нибудь из его детей около нее. И, судя по тому‚ что слышу‚ ваше присутствие около нее‚ бедной‚ сегодня‚ действительно‚ было нужно.
Боковой фасад дома В. Г. Черткова в Телятинках в трех верстах
от Ясной Поляны. 1911–1912.
Фотография С. М. Беленького
Боюсь‚ как бы вы не простудились после сегодняшнего неожиданного купания в пруду. Дай Бог‚ чтобы обошлось без последствий.
Посылаю Алешу (А. П. Сергеенко‚ секретарь В. Г. Черткова. — В. Р.), чтобы узнать от вас побольше сведений.
Ну‚ крепитесь же. Оказывайте матери вашей наибольшую мягкость‚ на какую вы способны‚ не отказываясь от необходимой твердости. Я рад‚ что мне ее сейчас истинно жаль. Но вместе с тем несказанно радуюсь поступку Льва Николаевича.
Советую вам заявить Софье Андреевне‚ что вам поручена почта Льва Николаевича. (По существу это была бы не неправда); и вскрывать ее‚ чтобы посылать ему до поры до времени только нужные письма. В. Ч.».
Из ежедневника Софьи Андреевны Толстой
28 октября. Ясная Поляна
«Лев Ник. неожиданно уехал. О, ужас! Письмо его, чтоб его не искать, он исчезнет для мирной, старческой жизни — навсегда. Тотчас же, прочтя часть его, я в отчаянии бросилась в средний пруд и стала захлебываться; меня вытащили Саша и Булгаков; помог Ваня Шураев. Сплошное отчаяние. И зачем спасли?».
Из письма Владимира Григорьевича Черткова матери Елизавете Ивановне Чертковой
28 октября 1910 г. Ясенки Тульской губ.
«Моя Мамá, […] сегодня утром Лев Николаевич покинул Ясную Поляну в 5½ утра, оставив Софье Андреевне очень трогательное письмо, в котором говорит, что давно тяготится жизнью в безумной роскоши среди всеобщей нищеты, что делает только то, что делают многие старики, ища уединения перед смертью, уходя большею частью в монастырь, что сделал бы и он, если бы верил в обряды, а, не веря, просто удалился в уединение. Просит у нее прощения за все, прощает ее в том, в чем “она могла” быть виновата перед ним. Благодарит ее за ее честную многолетнюю супружескую жизнь и заботы о детях, просит не приезжать к нему, а привыкнуть к ее новому положению. Ни слова упрека или каких-нибудь личных счетов. Ушел он с Душаном Петровичем Маковицким — никто не знает куда, разве только Александра Львовна, которая, вероятно, поедет к нему, лишь только приедут в Ясную ее сестра и братья.
Л.Н. и С. А. Толстые отправляются на верховую прогулку.
Ясная Поляна. 1903. Фотография А. Л. Толстой
Л. Н. Толстой у плотины через реку Воронка. Ясная Поляна. 1908. Фотография В. Г. Черткова
Не могу словами высказать, как я рад этому его поступку. Он столько времени откладывал, боясь сделать это “для себя”, что можно быть уверенным, что теперь в его побуждении не было ни малейшего эгоистического элемента, но что поступил он так “перед своим Богом”. И я уверен, что для всех это будет очень хорошо, начиная с несчастной Софьи Андреевны, какие бы внешние последствия это в ней ни вызвало; и даже, если бы он вскоре и раздумал и вернулся бы домой, что для человека, желающего руководствоваться одним только голосом Божиим в своей душе, также легко может быть, как и то, что он не вернется.
Когда Софья Андреевна проснулась и узнала, то была поражена и, разумеется, проделала свою обычную программу в этих случаях. Она бегала к пруду и бросилась в воду.
Александра Львовна и наш друг Булгаков… бросились в воду за ней… при помощи других сбежавшихся из дома вытащили ее из воды и понесли в дом… […]
Радуюсь тому, что мне теперь истинно жаль эту несчастную женщину; но я уверен, что это для нее хорошо. Несмотря на все уступки Льва Николаевича, она продолжала его немилосердно изводить день и ночь. […] И от его доброты к ней она как будто только становилась хуже. Он, очевидно, убедился в том, что присутствие его около нее не помогает, а только вредит ей. К тому же были еще и новые домогательства с ее стороны и относительно его писаний, — вопрос, в котором он не считает себя вправе уступать».
Из книги Александры Львовны Толстой «Отец»
28 октября. Ясная Поляна. Около 11 часов дня
«Моя мать, не спавшая почти всю ночь, проснулась поздно, около 11 часов, и быстрыми шагами вбежала в столовую.
— Где папа? — спросила она меня.
— Уехал.
— Куда?
— Я не знаю, — и я подала ей письмо отца.
Она быстро пробежала его глазами, голова ее тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами. […]
Но С. А. не дочитала письма. Она бросила его на пол и с криком: “Ушел, ушел совсем, прощай, Саша, я утоплюсь”, — бросилась бежать.
Я крикнула Булгакову, чтобы он следил за матерью, которая в одном платье выскочила на двор и по парку побежала вниз, по направлению к среднему пруду. Видя, что Булгаков отстает, я, что есть духу, помчалась матери наперерез, но догнать ее не могла. Я подбежала к мосткам, где обычно полоскали белье, в тот момент, когда моя мать поскользнулась на скользких досках, упала и скатилась в воду, в сторону, где, к счастью, было неглубоко. В следующую секунду я была уже в воде и держала мать за платье. За мной бросился Булгаков, и мы вдвоем подняли ее над водой и передали толстому запыхавшемуся Семену, повару, и лакею Ване, которые бежали за нами.
В продолжение всего этого дня мы не оставляли матери. Она несколько раз порывалась снова выбегать из дома, угрожала, что выбросится в окно, утопится в колодце на дворе.
Сестре Тане и всем братьям я послала телеграммы, извещая их о случившемся и прося немедленно приехать, вызвала врача-психиатра из Тулы. Весь день и всю ночь я не переставая следила за матерью.
Дом семьи Толстых в Ясной Поляне
Купальня на Среднем пруду в Ясной Поляне. 1897.
Фотография С. А. Толстой
Но в то время, как я меняла свою мокрую одежду, она успела послать Ваню, лакея, на станцию, чтобы узнать, с каким поездом уехал отец, и послала ему телеграмму: “Вернись немедленно — Саша”. Вдогонку этой телеграмме я послала вторую: “Не беспокойся, действительны телеграммы, только подписанные Александрой”. Эти телеграммы, к счастью, не были получены отцом — он успел пересесть на другой поезд.
Трудно описать состояние нервного напряжения, в котором я находилась весь день до приезда родных. Тульский доктор мало меня утешил. Он не исключал возможности, что С. А. в припадке нервного возбуждения могла бы покончить с собой».
Из дневника Александры Львовны Толстой
«Но весь этот ужасный кошмарный день у меня было двойное чувство. С одной стороны, мне все казалось, что горе матери очень преувеличено, что она ничего не сделает с собой, и только хочет напугать нас, чтобы мы дали знать отцу, а, с другой стороны, было сомнение, не может ли она действительно сделать что-нибудь с собой, и тогда ярко и настойчиво вставала мысль об отце, об его отчаянии в случае, если он узнает, что с ней могло что-нибудь случиться. И я решила во что бы то ни стало следить за ней и днем, и ночью, пока не приедут остальные, и тотчас же решила вызвать всех братьев и Таню, и психиатра из Тулы. Так и сделала. Андрей был в Крапивне и мог быть у нас в тот же день.
А мать между тем не переставая плакала, волновалась, истерически рыдала, била себя в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком, то коробочкой с красками “риполин”, всем, что попадалось под руки. Брала ножницы, ножи, делая вид, что колет себя ими. Пугала нас, что бросится в “колодезь” на дворе, и тотчас же мы забили решетку в колодец, хотела выброситься в окно, зарезаться. […] Так продолжалось весь день. К вечеру приехал Андрей. Мне стало легче. А через час после него приехал доктор из Тулы. Доктор спокойный, с чувством собственного достоинства, потребовал видеться с матерью, говорить с ней. Определил истерию, но не нашел никаких признаков умственного или душевного расстройства. Совершено нормальна. Но, несмотря на это, говорил, что не исключает возможности самоубийства.
Ночью дежурили: Марья Александровна, Булгаков, я вставала среди ночи узнать, что делается. Мать ходила из комнаты в комнату, то рыдая, то успокаиваясь, но уже не делала никаких попыток к самоубийству».
Из воспоминаний секретаря
Льва Николаевича Толстого
Валентина Федоровича Булгакова
«С мостков еще вижу фигуру Софьи Андреевны: лицом кверху, с раскрытым ртом, в который уже залилась, должно быть, вода, беспомощно разводя руками, она погружается в воду… Вот вода покрыла ее всю.
К счастью, мы с Александрой Львовной чувствуем под ногами дно. Софья Андреевна счастливо упала, поскользнувшись. Если бы она бросилась с мостков прямо, там дна бы не достать. Средний пруд очень глубок, в нем тонули люди… Около берега нам — по грудь.
С Александрой Львовной мы тащим Софью Андреевну кверху, подсаживаем на бревно-козел, потом — на самые мостки.
Подоспевает лакей Ваня Шураев. С ним вдвоем мы с трудом подымаем тяжелую, всю мокрую Софью Андреевну и ведем ее на берег. […] С ним (Ваней. — В. Р.) на поезд № 9, с которым уехал Лев Николаевич, она отправила телеграмму такого содержания: “Вернись скорей. Саша”. Телеграмму эту Ваня показал Александре Львовне, — не из лакейского подхалимства, а из искреннего сочувствия Льву Николаевичу и привязанности к нему. Прислуга вообще не любила Софью Андреевну. Тогда Александра Львовна послала другую телеграмму, вместе с этой, где просила Льва Николаевича верить только телеграммам, подписанным “Александра”.
Между тем Софья Андреевна все повторяла, что найдет другие способы покончить с собой. Силой мы отобрали у нее опиум, перочинный нож и тяжелые предметы, которыми она начала колотить себя в грудь…
Не прошло и часа, как снова бегут и говорят, что Софья Андреевна опять убежала к пруду. Я догнал ее в парке и почти насильно увел домой.
На пороге она расплакалась.
— Как сын, как родной сын! — говорила она, обнимая и целуя меня…
Ваня, вернувшись из Ясенок, сообщил, что на поезд № 9 в кассе было выдано четыре билета: два второго класса до станции Благодатное (откуда идет дорога в Кочеты к Сухотиным) и два третьего класса до станции Горбачево (где нужно пересаживаться, чтобы ехать в Шамордино, к М. Н. Толстой). Сведения были достаточно неопределенны: Лев Николаевич мог поехать в том и другом направлении.
Александра Львовна телеграфно вызвала Андрея Львовича, Сергея Львовича и Татьяну Львовну. Кроме того, из Тулы доктора-психиатра для Софьи Андреевны, положение которой внушает опасения. Из Овсянникова случайно приехала М. А. Шмидт, которая здесь остается.
Еще в течение дня приехал из Крапивны, где он случайно находился, Андрей Львович. Самоуверенно обещал Софье Андреевне завтра же утром сказать, где находится Лев Николаевич. Хотел действовать через тульского губернатора. Потом пыл его охладел».
Л. Н. Толстой и В. Ф. Булгаков за разбором почты. Кочеты. 1910. Фотография В. Г. Черткова
ТОЛСТОЙ В ДОРОГЕ
ГОРБАЧЕВО — КОЗЕЛЬСК
«Как хорошо, свободно!»
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
28 октября
«Доехали до Горбачева. Л. Н. еще в пролетке сказал, что от Горбачева поедем в третьем классе. Перенесли вещи в поезд Сухиничи — Козельск. Оказался поезд товарный, смешанный, с одним вагоном третьего класса, который был переполнен, и больше чем половина пассажиров курила. Некоторые, не находя места, с билетами третьего класса переходили в вагоны-теплушки.
— Как хорошо, свободно! — сказал Л. Н., очутившись в вагоне.
Вещи внесли в вагон, и Л. Н. уселся в середине вагона. […]
Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне когда-либо приходилось ездить по России. Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить себе лицо об угол приподнятой спинки, которая как раз против середины двери; его надо было обходить. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота. Я хотел подостлать Л. Н. плед под сиденье, Л. Н. не позволил. Он в эту поездку особенно неохотно принимал услуги, которыми раньше пользовался.
Л. Н. вскоре вышел на переднюю площадку (чтобы освежиться); я за ним и просил его перейти на заднюю. Л. Н. вернулся, потеплее оделся (в меховое пальто, в меховую шапку, зимние глубокие калоши) и пошел на заднюю площадку, но тут оказалось пять курильщиков, и Л. Н. опять вернулся на переднюю, где стояло только трое, баба с ребенком и мужик. Л. Н. приподнял воротник и сел на свою палку с раскладным сиденьем. Мороз мог быть в один-два градуса. Через минут десять и я пришел туда спросить, не войдет ли в вагон, а то встречный ветер от движения поезда. Л. Н. ответил, что ему — ничего, как в верховой езде. Л. Н. там просидел на палочке три четверти часа (роковых три четверти часа!).
[С этих слов начинается самоэкзекуция Д. П. Маковицкого. Он отмечает каждый эпизод, так или иначе связанный с фактом воздействия на здоровье Льва Николаевича, а также признаки ухудшения его самочувствия. Здесь и далее эпизоды с характеристикой здоровья Толстого будут выделены курсивом. — В. Р.].
Потом прилег на скамейку. Едва он прилег, как нахлынула толпа новых пассажиров и осталась стоять в продольном проходе, а против Л. Н. как раз женщины с детьми. Л. Н. спустил ноги, хотел им дать место и больше не лег. Я попросил двух парней встать и дать женщинам места, что они охотно сделали. Но Л. Н. уже не хотел больше лечь и оставшиеся четыре часа просидел и простоял, и из них четверть часа опять на передней площадке. Я осмотрел теплушки, думая, не пересесть ли туда, но в них было грязно, сквозной ветер, окна и двери с обеих сторон настежь открыты.
Л. Н. разговорился с сидящим против него 50-летним мужиком из Дудинщины о его семье, хозяйстве, извозе и битье кирпича — делах, которыми он занимается. Л. Н. расспрашивал подробности этой работы. “Ein typischer Bauer” (“типичный крестьянин” (нем.). — В. Р.), — сказал он мне про него. Мужик бойкий, смело говорил про водку, чья она, как у них производили экзекуцию за то, что лес рубили “до своей межи”, и потом вышло так, что была признанной эта “их межа”. Это рассказывал с сердцем на барина Б. Тут вмешался в разговор землемер и изложил историю возникновения экзекуции иначе, и о Б. говорил, что он был добрый человек. Мужик стоял на своем и смело опровергал землемера. Но этот тоже не уступал.
— Мы больше вас, мужиков, работаем, — сказал землемер.
Л. Н.: “Это нельзя сравнить”.
Художник В. И. Россинский. Толстой в вагоне по дороге в Козельск
Потом, когда землемер стал оправдывать экзекуцию и выделение из общины, Л. Н. вступил с ним в пререкание; говорил, что не надо крестьян принуждать и соблазнять выделяться из общины.
Мужик громко одобрял, поддакивал Л. Н-чу, землемер спорил с ним.
Потом землемер сказал:
— Я знал вашего братца, Сергея Николаевича.
Л. Н. вступил с ним в личный разговор. Оказалось, что землемер придерживался либеральных научных взглядов, был начитанным, умным, умеющим и любящим спорить из-за “красного словца”. Землемер, когда с крестьянином вступил в спор, излагал дела крестьян с помещиком со своей точки зрения, по которой правда была за помещиком. Когда же спорил с Л. Н., хотел защищать свои взгляды и, чтобы отстоять их, готов был спорить бесконечно, и не для того, чтобы дознаться правды в разговоре. Не было заметно, чтобы он хотел услышать более правильный взгляд Л. Н. и внять ему. (Такое было мое впечатление; может быть, я ошибался).
Он перевел разговор с “Единого налога” по Генри Джорджу и насилия на Дарвина, на образование. Л. Н. сначала отвечал ему, объясняя верную точку, с которой надо смотреть на эти вопросы, а потом, когда дудинец, одобряя речи Л. Н., перестал громко прерывать его (в то же самое время говорить, обращаясь к соседям) и когда в вагоне все затихли и прислушивались, Л. Н. стал говорить, излагать для всех, отвечая землемеру. Л. Н. был возбужден, привстал и так продолжал разговор, завладел вниманием всех в вагоне. Публика с обоих концов вагона подошла к среднему отделению, обступила и очень внимательно и тихо прислушивалась. Были крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты, два еврея, одна гимназистка, которая сначала прислушивалась и записывала разговор, потом сама в него вступила в защиту науки, возражая Л. Н-чу. Л. Н. горячился. Как ни тихи были слушатели, все-таки надо было напрягать голос. Я несколько раз хотел его попросить перестать, возражения ему так и сыпались, но некогда было вставить мне слоÏва. Говорили больше часу. Л. Н. попросил открыть дверь вагона и потом, одевшись, сам вышел на площадку. […] Подъехали к Белеву, где землемер и гимназистка слезли.
Л. Н. тоже слез, пошел в буфет второго класса, где пообедал. Тут буфетчик и сидевшая за столом компания, очевидно, местных интеллигентов узнали его. Ресторатор и еще один человек очень внимательно-добродушно к нему отнеслись. Дверь из буфета в кассу третьего класса с железным краем страшно хлопала; Л. Н. следил за каждым, кто проходил в дверь, которая должна была хлопнуть, страдальчески напрягал мышцы лица, как будто готовясь принять удар после него, и покряхтывал.
Вернувшись в вагон, Л. Н. уселся на свое место против дудинца. Этот, узнав, что Л. Н. едет в Оптину Пустынь (Л. Н. расспрашивал про дорогу в Оптину Пустынь и в Шамордино и про расстояние), сказал Л. Н.:
— А ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела — бросить, а душу — спасать. Ты в монастыре и оставайся.
Л. Н. ответил ему доброй улыбкой.
Рабочий в конце вагона стал бойко играть на гармошке и подпевать. Пропел хорошо несколько песен. Л. Н. с удовольствием слушал и похваливал. […]
Потом Л. Н. пожаловался на усталость — устал сидеть. Поезд очень медленно шел — 105 верст за 6 часов 25 минут. (Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Л. Н.).
В 4.50 доехали до Козельска. Л. Н. вышел первым. Когда я с носильщиком снес вещи в зал ожидания вокзала, Л. Н. пришел и сказал, что уже подрядил извозчиков в Оптину Пустынь, и повел нас; сам взяв одну корзинку, снес ее на бричку, нанятую под вещи».
ВЕСТИ ИЗ КОЗЕЛЬСКА
28 октября
Телеграмма Льва Николаевича Толстого В. Г. Черткову, А. Л. Толстой:
1910 г. Октября 28. Козельск — Ясенки.
Ночуем Оптиной. Завтра Шамордино, адрес Подборки. Здоров.
Николаев.
[Оптина пустынь — мужской монастырь в Козельском уезде Калужской губернии, духовный центр русского старчества. Место поклонения многих русских писателей и мыслителей — Гоголя, Киреевских, Аксаковых, Достоевского, В. Соловьева, К. Леонтьева и др. Толстой не раз посещал монастырь. 26 июля 1877 г. он приехал в монастырь с Н. Н. Страховым из Москвы через Калугу и Тулу, чтобы встретиться с жившим в монастырском скиту старцем Амвросием (прототип старца Зосимы в «Братьях Карамазовых) и другими монахами. В середине июня 1881 г. Толстой вместе со слугой С. П. Арбузовым и учителем Яснополянской школы Д. Ф. Виноградовым ходил в Оптину пустынь пешком. 15 июня имел беседы с архимандритом Ювеналием и старцем Амвросием, у которого провел два часа. Позднее в письме И. С. Тургеневу Толстой так отзовется о своем путешествии: «Паломничество мое удалось прекрасно. Я наберу из своей жизни годов пять, которые отдам за эти десять дней». Третий раз Толстой побывал в Оптиной пустыни в феврале 1890 г. вместе с дочерью Таней, Марией и племянницей В. А. Кузминской. Толстой вновь видел «старца Амвросия, разговаривал с ним о разных верах». После этой беседы в дневнике он написал: «Амвросий жалок до невозможности. “Учит” и не видит, что нужно». Амвросий после беседы с Толстым, как свидетельствовал К. Леонтьев, сказал: «Горд очень». В августе 1896 г. Толстой поехал с женой в Шамордино навестить свою сестру М. Н. Толстую — монахиню Шамординского монастыря. В Оптиной пустыни они побывали на могилах тетки А. И. Остен-Сакен и Е. А. Ергольской. Толстой встретился со старцем о. Иосифом, смирение и доброта которого произвели на Толстого неизгладимое впечатление. Близкие писателю люди заметили, что после этой встречи Л. Н. «стал гораздо мягче».
Общий вид Введенской Оптиной пустыни. Козельский уезд Калужской губ. 1896. Фотография С. А. Толстой
Амвросий, иеросхимонах, преподобный,
великий старец Оптиной пустыни. Фотография 1870-х гг.
Шамордино — женский монастырь в 12 верстах от Оптиной пустыни; монахиней этого монастыря была сестра писателя Мария Николаевна Толстая.
Подборки — почтово-телеграфное отделение Калужской губернии, недалеко от шамординского монастыря.
Николаев — конспиративная фамилия Толстого в дни ухода. — В. Р.].
Письмо Владимира Григорьевича Черткова А. Л. Толстой
28 октября 1910 г.
Телятинки. Вечер
«Александра Львовна.
Прилагаемая телеграмма (из Козельска, см. выше. — В. Р.) только что получена.
Подписана была согласно условию. Подпись я отрезал‚ чтобы не выдать псевдоним в случае‚ если вы покажете домашним телеграмму.
Алеша поехал сейчас ночью‚ зная содержание телеграммы. Завтра он в одном из указанных в телеграмме мест должен найти Льва Николаевича.
Так как мать ваша желает лишить себя жизни или делает вид‚ что желает, — главным образом‚ чтобы доказать людям‚ что она так любит Льва Николаевича‚ что не может жить без него‚ то важно всем его сговориться внушать ей‚ что, лишая или делая попытки лишать себя жизни‚ она всему миру доказывает‚ что не (курсив Черткова. — В. Р.) любит его‚ так как ей нельзя сделать ему больше зла‚ чем именно это. Наоборот‚ если она действительно любит его‚ то может это проявить только одним путем: спокойно и покорно применяясь к его желаниям и предоставляя ему пожить так‚ как он сознает необходимую потребность пожить. Это вместе с этим единственное средство сохранить малейшую надежду‚ что он когда-нибудь к ней вернется. И для нее это самая “благородная” теперь роль в глазах людей. Это все надо ей твердить‚ и одни только эти соображения могут‚ как мне кажется‚ сколько-нибудь облагоразумить ее.
Галя (Анна Константиновна Черткова, жена В. Г. Черткова. — В. Р.) очень просит вас беречь себя. Завтра не вставать и проч. В. Ч.».
Письмо Льва Николаевича Толстого А. Л. Толстой
28 октября 1910 г. 7 часов 53 минуты вечера. Козельск
«28 октября 1910 г.
Ст. Козельск.
Доехали, голубчик Саша, благополучно. Ах, если бы только у вас бы не было не очень неблагополучно. Теперь половина восьмого. Переночуем (в Оптиной пустыни. — В. Р.) и завтра поедем, если будем живы, в Шамардино. Стараюсь быть спокойным и должен признаться, что испытываю то же беспокойство, какое и всегда, ожидая всего тяжелого, но не испытываю того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома.
Пришлось от Горбачева ехать в 3-м классе, было неудобно, но очень душевно приятно и поучительно. Ели хорошо и на дороге и в Белеве, сейчас будем пить чай и спать, стараться спать. Я почти не устал, даже меньше, чем обыкновенно. О тебе ничего не решаю до получения известий от тебя. Пиши в Шамардино и туда же посылай телеграммы, если будет что-нибудь экстренное. Скажи Бате (Черткову В. Г. — В. Р.), чтоб он писал и что я прочел отмеченное в его статье место, но второпях, и желал бы перечесть — пускай пришлет. (По-видимому, имеется в виду составленная Чертковым краткая история унитарианского движения в Англии под заглавием “Унитарианское христианство”, присланная Толстому Чертковым при его письме от 25 октября 1910 г. — Н. С. Родионов). Варе (В. М. Феокритова-Полевая. — В. Р.) скажи, что ее благодарю, как всегда, за ее любовь к тебе и прошу и надеюсь, что она будет беречь тебя и останавливать в твоих порывах. Пожалуйста, голубушка, мало слов, но кротких и твердых.
Пришли мне или привези штучку для заряжения пера (чернила взяты), начатые мною книги Montaigne, Николаев, 2-й том Достоевского, Une vie.
Письма все читай и пересылай нужные: Подборки, Шамардино.
Владимиру Григорьевичу скажи, что очень рад и очень боюсь того, что сделал. Постараюсь написать сюжеты снов и просящиеся художественные писания. От свидания с ним до времени считаю лучшим воздержаться. Он, как всегда, поймет меня.
Прощай, голубчик, целую тебя. Л. Т.
Еще пришли маленькие ножнички, карандаши, халат».
[*Монтень. Опыты (на фр. яз.). Книга находится в яснополянском кабинете Л. Н. Толстого; Николаев П. П. Понятие о боге как совершенной основе жизни. Т. 2. Книга находится в яснополянской библиотеке; Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Полн. собр. соч. Т. 14. СПб., 1882. Книга находится в яснополянском кабинете Л. Н. Толстого; Мопассан. Жизнь. — В. Р.]
КОЗЕЛЬСК — ОПТИНА ПУСТЫНЬ
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
28 октября. Вечер
«До Оптиной поехали с ямщиком Ф. И. Новиковым на паре в пролетке, за нами другой ямщик с вещами. Проехав город, они стали совещаться, ехать дорогой или лугами. Дорога была ужасная, грязная, неровная, и ямщики взяли с нее влево, через луга города Козельска; несколько раз приходилось проезжать канавы. Было не очень темно, месяц светил из-за облаков. Лошади шагали. На одном месте ямщик стегнул их, они рванули, и страшно тряхнуло, Л. Н. застонал. Это проехали через глубочайшую канаву на дорогу и тут же на мост. Потом въехали в ограду, за которой монастырские земли, дорога тоже тяжелая, да еще все время приходилось нагибаться, сторониться от ветвей старых лоз, очень низких вследствие того, что выгонки обрубают.
Л. Н. спрашивал еще в вагоне и теперь ямщика, какие старцы есть, и сказал мне, что пойдет к ним. Л. Н. спрашивал ямщика, в какой гостинице остановиться; тот посоветовал остановиться у о. Михаила, говоря, что там чисто.
Долго ждали, пока дозвались парома. Л. Н. обменялся несколькими словами с паромщиком-монахом и заметил мне, что он из крестьян.
Гостинник о. Михаил с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи.
Л. Н.: “Как здесь хорошо!”
И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне. […] Адресовал Черткову для Саши. Сам вынес ее ямщику Федору, прося отправить, и подрядил его одного на завтра в Шамордино (нас свезти). Потом пил чай с медом (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда поставить самопишущее перо на ночь. Потом стал писать дневник; спросил, какое сегодня число. Сказал, что утром пойдет погулять и к старцу зайдет».
ОПТИНА ПУСТЫНЬ
Из дневника Льва Николаевича Толстого
28 октября. Вечер
Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в 3-м, набитом рабочим народом вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал. Теперь 8 часов, мы в Оптиной.
Перед сном
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
«Я попросил позволить снять ему сапоги.
— Я хочу сам себе служить, а вы вскакиваете.
И сам с трудом снял сапоги.
Еще сказал, что чем менее обслуживали бы его, тем проще (лучше) было бы жить, и добавил:
— Хочу до крайностей ввести простоту.
Не желая нарушать привычку Л. Н. — спать одному в комнате, я сказал, что пойду спать в другую комнату, напротив, в коридоре.
В 10 часов лег.
У Л. Н. вид был не особенно усталый. Теперь, вечером, когда писал, больше обыкновенного торопился. Но зато днем не дорожил временем, как обыкновенно. Это мне бросилось в глаза. Весь день ни одной мысли не записывал. И в следующие два дня не дорожил временем (т. е. не использовал его для работы в той мере, как дома привык). Еще поразило меня, что не давал себе помогать (и дома неохотно принимал услуги, но сегодня и в следующие дни — куда неохотнее и совсем нет). И бережливость в расходовании денег. Л. Н. всегда старался платить за все настоящую цену, что трудно -определить; не любил переплачивать.
Ночь была беспокойная, сначала от кошек, которые бегали по коридору, прыгали на мебели, расположенные как раз у стены, за которой спал Л. Н., раскачивали их, стуча. Потом выходила в коридор выть женщина, у которой сегодня помер брат, монах-лавочник. Она же рано утром вошла к Л. Н. просить устроить ее малюток и припала к его ногам, что Л. Н. всегда было тяжело».
Из дневника Льва Николаевича Толстого
29 октября. Утро
Спал тревожно, утром Алеша Сергеенко. Я, не поняв, встретил его весело. Но привезенные им известия ужасны. Софья Андреевна, прочтя письмо, закричала и побежала в пруд. Саша и Ваня побежали за ней и вытащили ее. Приехал Андрей. Они догадались, где я, и Софья Андреевна просила Андрея во что бы то ни стало найти меня. И я теперь, вечер 29-го, ожидаю приезда Андрея. Письмо от Саши. Она советует не унывать. Выписала психиатра и ждет приезда Сережи и Тани. Мне очень тяжело было весь день, да и физически слаб. Гулял, вчера дописал заметку в «Речь» о смертной казни.
Из «Дневника для одного себя»
Льва Николаевича Толстого
Приехал Сергеенко. Все то же, еще хуже. Только бы не согрешить. И не иметь зла. Теперь нету.
[Встав в 7 утра, Толстой встретил Алешу Сергéенко, помощника и секретаря В. Г. Черткова. Тот передал два письма для Толстого от Александры Львовны и Владимира Григорьевича, рассказал о Софье Андреевне и сообщил, что власти распорядились отслеживать каждый шаг писателя. — В. Р.].
Письмо Александры Львовны Толстой Л. Н. Толстому
28 октября 1910 г. Ясная Поляна
«Милый, дорогой мой папаша, не унывай, как и я не унываю. Завтра приедут старшие, и мне будет легче.
Целую крепко, крепко. Все расскажет тебе А. Сергеенко».
В. Г. Чертков и А. П. Сергеенко. 1909. Фотография Т. Тапселя
Письмо
Льва Николаевича Толстого
А. Л. Толстой
29 октября. Оптина Пустынь
«Сергеенко тебе все про меня расскажет, милый друг Саша. Трудно. Не могу не чувствовать большой тяжести. Главное, не согрешить, в этом и труд. Разумеется, согрешил и согрешу, но хоть бы поменьше.
Этого, главное, прежде всего желаю тебе, тем более, что знаю, что тебе выпала страшная, не по силам по твоей молодости задача. Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, чего не могу не делать, и не делать того, чего мог бы не делать. Из письма к Черткову ты увидишь, как я не то что смотрю, а чувствую. Очень надеюсь на доброе влияние Тани и Сережи. Главное, чтоб они поняли и постарались внушить ей, что мне с этими подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к самому близкому и нужному мне человеку (речь идет о В. Г. Черткове. — В. Р.), с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне, что я желаю одного — свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо. Разумеется, этого они не могут внушить ей, но могут внушить, что все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок, который грозит мне, избавлю и ее, и себя от этого ужасного положения, в котором мы жили и в которое я не хочу возвращаться.
Видишь, милая, какой я плохой, не скрываюсь от тебя.
Тебя еще не выписываю, но выпишу, как только будет можно, и очень скоро. Пиши, как здоровье. Целую тебя. Л. Толстой.
С. Л. и А. Л. Толстые в зале яснополянского дома. 1900.
Фотография М. Л. Оболенской (?)
Едем Шамардино.
Душан разрывается, и физически мне прелестно».
Письмо Владимира Григорьевича Черткова Л. Н. Толстому
28 октября 1910 г. Телятинки Тульской губ.
«Дорогой друг, посылаю вам это письмо через Сашу, не знаю куда. Не могу высказать словами, какою для меня радостью было известие о том, что вы ушли. Всем существом сознаю, что вам надо было так поступить и что продолжение вашей жизни в Ясной при сложившихся условиях было бы с вашей стороны не хорошо. И я верю тому, что вы достаточно долго откладывали, боясь сделать это “для себя”, — для того, чтобы на этот раз в вашем основном побуждении не было личного эгоизма. А то, что вы по временам неизбежно будете сознавать, что вам в вашей новой обстановке и лично гораздо покойнее, и приятнее и легче, — это не должно вас смущать. Без душевной передышки жить невозможно. Уверен, что от вашего поступка всем (курсив В. Г. Черткова. — В. Р.) будет лучше, и прежде всего бедной Софье Андреевне, как бы он внешним образом на ней ни отразился…
Не могу высказать вам всего того, что чувствую и думаю. К тому же сейчас спешу воспользоваться случаем в Ясную.
Галечка (жена В. Г. Черткова. — В. Р.) ночью во сне видела, что вы ушли. Это было, вероятно, в то самое время, когда вы уходили наяву. Она, бедненькая, волнуется — уже очень сильно она все это чувствует. Но она бодра и жалеет только о том, что не пришлось с вами проститься. Очень и очень много любви к вам сосредоточено в нашем здешнем маленьком общежитии.
Пожалуйста, пользуйтесь мною и моими друзьями в чем только нужно: это было бы, разумеется, и для меня и для них одна только радость.
Отдайте это письмо Душану для возвращения мне при случае.
(Сделали ли вы распоряжение о том, чтобы в вашем отсутствии Александра Львовна получала за вас почту? Это очень важно! В ее отсутствие вы могли бы воспользоваться, быть может, мною, давая адрес ваш так: В. Г. Черткову Ясенки Тул. губ.) Целую вас. Помогай вам Бог. В. Ч.».
Письмо
Льва Николаевича Толстого
В. Г. Черткову
1910 г. 29 октября. Оптина Пустынь
«Рад был видеть Алешу Сергеенко, но, как ни ожиданны были всякие дурные известия, те, которые он привез, больно поразили меня. Жду, что будет от семейного обсуждения — думаю, хорошее. Во всяком случае, однако, возвращение мое к прежней жизни теперь стало еще труднее — почти невозможно, вследствие тех упреков, которые теперь будут сыпаться на меня, и еще меньшей доброты ко мне. Входить же в какие-нибудь договоры я не могу и не стану. Что будет, то будет. Только бы как можно меньше согрешить.
Спасибо вам и за письмо ко мне, и за Сергеенко, и за письмо к Саше, про которое он мне говорил.
Я не похвалюсь своим и телесным и душевным состоянием, и то и другое слабое, подавленное.
Жалко Сашу, жалко детей — Сережу и Таню, жалко вас с Галей и больше всего ее самою. Только бы жалость эта была без примеси rancune (злопамятства. — В. Р.). И в этом не могу похвалиться.
Ну, прощайте. Спасибо за любовь, очень дорожу ею. Л. Т.
29. 2-й час дня».
[Толстой продиктовал Алексею Сергéенко исправления к письму Корнею Чуковскому о смертной казни. Оно будет напечатано после смерти писателя 13 ноября под названием «Действительное средство». Раздумья Толстого носят просветительский характер: не принуждение к отрицанию смертной казни, а приобщение всех без исключения людей к мысли о недопустимости узаконенного убийства человека. — В. Р.].
Л. Н. Толстой. Москва. 1909.
Фотография Ю. Мебиуса
Художник В. И. Россинский.
Толстой за последней работой (Оптина пустынь)
Из письма о смертной казни
литературоведа и писателя
Корнея Ивановича Чуковского
Л. Н. Толстому
1910 г. 24 октября. Ст. Куоккала Финляндской железной дороги
«Лев Николаевич. Не кажется ли вам, что все протесты против смертной казни — и ваше “Не могу молчать”, и Леонида Андреева “Рассказ о семи повешенных”, и Короленко “Бытовое явление” — имеют один очень большой недостаток? Они слишком академичны, недоступны уличной толпе, слишком для нее длинны и сложны, похожи на диссертации и, увлекая наиболее чуткую часть нашего общества, равнодушных так и оставляют равнодушными. Это все тяжелая артиллерия, а в борьбе с палачеством нужны и летучие отряды — для партизанских набегов, и мне кажется, было бы хорошо, если бы в одно прекрасное утро в какой-нибудь распространенной газете сразу, внезапно появились краткие (по сорок, по пятьдесят строк!) протесты против казни, подписанные именами наиболее авторитетных в России и за границей людей. […]
Илья Ефимович Репин вчера мне прислал свое красноречивое и пылкое осуждение виселице, — и это дает мне смелость обратиться и к вам, Лев Николаевич, с такой же мольбой: пришлите мне хоть десять, хоть пять строчек о палачах и о смертных казнях, и редакция “Речи” с благоговением напечатает этот единовременный протест лучших людей России против неслыханного братоубийства, к которому мы все привыкли и которое мы все своим равнодушием и своим молчанием поощряем. Любящий вас К. Чуковский».
Фрагмент письма Корнея Чуковского к Л. Н. Толстому, в котором он просит писателя принять участие в акции протеста против смертной казни. 12 октября 1910 г. Автограф
Фрагмент письма Корнея Чуковского к Л. Н. Толстому, в котором он просит писателя принять участие в акции протеста против смертной казни. 12 октября 1910 г. Автограф (окончание)
Конверт письма Корнея Чуковского к Л. Н. Толстому. 12 октября 1910 г. Автограф
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
[Последнее произведение Льва Толстого. — В. Р.]
Само собой, разумеется, что очень рад бы был сделать все, что могу, для противодействия тому злу, которое так сильно и болезненно чувствуется (всеми) лучшими людьми нашего времени.
Но думаю, что в наше время для действительной борьбы с смертной казнью нужно не проламывание раскрытых дверей; не выражения негодования против безнравственности, жестокости и бессмысленности смертной казни (всякий искренний и мыслящий человек и, кроме того, еще и знающий с детства шестую заповедь не нуждается в разъяснениях бессмысленности и безнравственности смертной казни), не нужны также и описания ужасов самого совершения казней; такие описания могут только успешно подействовать на самих палачей, так что люди будут менее охотно поступать на эти должности и исполнять их, и правительству придется дороже оплачивать их услуги.
И потому думаю, что главным образом нужно не выражение негодования против убийства себе подобных, не внушение ужаса совершаемых казней, a нечто совсем другое.
Как прекрасно говорит Кант, «есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Нужно сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые его просветят, тогда заблуждение исчезнет само собою».
Какие же знания нужно сообщить заблуждающемуся уму человеческому о необходимости, полезности, справедливости смертной казни, для того чтобы заблуждение это уничтожилось само собой?
Такое знание, по моему мнению, есть только одно: знание того, что такое человек, каково его отношение к окружающему его міру (земля, космос, вселенная. — В. Р.) или, что одно и то же, в чем его назначение и потому, что может и должен делать каждый человек, а главное, чего не может и не должен делать.
Л. Н. Толстой. «Действительное средство». Последняя статья Л. Н. Толстого в форме ответа на письмо К. Чуковского. Машинопись с правкой-автографом Толстого. 26 октября 1910 г. Ясная Поляна
И потому, если уж бороться с смертной казнью, то бороться только тем, чтобы внушать всем людям, в особенности же распорядителям палачей и одобрителям их, ошибочно думающим, что они только благодаря смертной казни удерживают свое положение, внушать этим людям то знание, которое одно может освободить их от их заблуждения.
Знаю, что дело это нелегкое. Наемщики и одобрители палачей инстинктом самосохранения чувствуют, что знания эти сделают для них невозможным удержание того положения, которым они дорожат, и потому не только сами не усваивают этого знания, но всеми средствами власти, насилия, обмана, коварства, лжи, жестокости стараются скрыть от людей эти знания, извращая их и подвергая -распространителей их всякого рода лишениям и страданиям.
И потому, если мы точно хотим уничтожить заблуждение смертной казни и, главное, если имеем то знание, которое уничтожает это заблуждение, то давайте же будем, несмотря ни на какие угрозы, лишения и страдания, сообщать людям это знание, потому что это единственно действительное средство борьбы.
29 октября, 1910 г. Оптина Пустынь.
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
29 октября.
Оптина Пустынь. Первая половина дня
«К А. П. Сергеенко Л. Н. был очень внимателен… При нем сказал, что к старцам не пойдет.
— Монастырская обстановка вам не противна?
— Напротив, приятна, — ответил Л. Н.
В Оптиной Л. Н. был спокоен и был не прочь там остаться. […]
Художник В. И. Россинский. Толстой в Оптиной пустыни
На вопрос, как спал, ответил, что плохо; оттого не спал, что нервы у него возбуждены. Л. Н. оставил Сергеенко переписать статью и записать данные о вдове-просительнице и вручить ей письмо Л. Н.-ча к его родне, которую просил помочь ей. Л. Н. пошел гулять. Когда выходил из комнаты, сказал:
— Как хорошо, что не надо прятать, замыкать.
Л. Н. ходил гулять к скиту. Подошел к его юго-западному углу. Прошел вдоль южной стены (мне так сказал рабочий, слышавший от товарищей) и пошел в лес.
Вернувшись, продолжал разговаривать с А. П. Сергеенко и пошел пить кофе. Потом написал письмо Александре Львовне и, кажется, Черткову…
В 12-м часу Л. Н. опять ходил гулять к скиту. Вышел из гостиницы, взял влево, дошел до святых ворот, вернулся и пошел вправо, опять возвратился к святым воротам, потом пошел и завернул за башню к скиту.
О. Пахомий стоял у ворот своей гостиницы. Он услышал, что Л. Н. в Оптиной Пустыни, и вышел, чтобы его увидеть. О. Пахомий с метелкой подметал; увидев Л. Н., догадался, что это он. Он ему поклонился, Л. Н. ответил поклоном и подошел к нему, спросил его:
— Это что за здание?
— Гостиница.
— Как будто я тут останавливался. Кто гостинник?
— Я, отец Пахомий грешный. А это вы, ваше сиятельство?
— Я — Толстой Лев Николаевич. Вот я иду к отцу Иосифу, старцу, и боюсь его беспокоить; говорят, он болен.
— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.
[Позже сестра писателя М. Н. Толстая сетовала на то, что отец Пахомий не взялся сопроводить брата к отцу Иосифу. — В. Р.]
— Где вы раньше служили? (Л. Н. догадался, что он из солдат и простой, неграмотный монах.)
Тот назвал какой-то гвардейский полк в Петербурге.
— А, знаю, — сказал Л. Н. — До свидания, брат. Извините, что так называю. Я теперь всех так называю. Мы все братья у одного царя.
В руках у него была палка с раскладным сидением. Он отправился к о. Иосифу. Л. Н. пошел к скиту. Подойдя к святым воротам, повернул вправо, в лес.
Вернувшись, вошел ко мне и сказал, где гулял (около скита):
— К старцам сам не пойду. Если бы сами позвали, пошел бы.
У Л. Н., видно, было сильное желание побеседовать со старцами. Вторую прогулку (Л. Н. утром по два раза никогда не гулял) я объясняю намерением посетить их. Л. Н. в это же утро сказал знакомому монаху о. Василию, что приехал отдохнуть в Оптину, а не удастся — так где-нибудь в другом месте пожить.
По-моему, Л. Н. желал видеть отшельников-старцев не как священников, а как отшельников, поговорить с ними о Боге, о душе, об отшельничестве, и посмотреть их жизнь, и узнать условия, на каких можно жить при монастыре. И если можно — подумать, где ему дальше жить. […] В час пообедали; Л. Н-чу показались очень вкусны монастырские щи да хорошо проваренная гречневая каша с подсолнечным маслом; очень много ее съел.
Когда Л. Н. уходил, он зашел к о. Михаилу в комнатку.
— Что я вам должен?
— По усердию.
— Три рубля довольно?
— Да. Мне дорого, что такой человек, как вы, посетили нас. Дайте мне вашу карточку.
— Да какой же я человек — отверженный. Карточки у меня нет, я вам пошлю.
— Прошу вас, распишитесь.
И Л. Н. расписался в книге посетителей, пометив: “Благодарит за прием”».
ОПТИНА ПУСТЫНЬ — ШАМОРДИНО
Из «Яснополянских записок»
Душана Петровича Маковицкого
29 октября. Вторая половина дня
«В 3-м часу выехали в Шамордино. Л. Н. ушел вперед пешком (это у него обычай такой был, когда уезжал оттуда, где гостил, уходить вперед одному).
Отец Михаил мне говорил, что был весь нараспашку, «не застегивается; так он простудится».
Мы с А. П. Сергеенко в экипажах догнали его на пароме. Туда сошлось около 15 монахов, чтобы видеть Л. Н., хотя он (должен сказать) в Оптиной особенно большого внимания не возбудил.
— Жалко Льва Николаевича, ах ты, господи! Да! Бедный Лев Николаевич! Свежий старик, такой бодрый.
Уход Толстого. Как это было
В книге впервые представлена развернутая хроника последних месяцев жизни Льва Толстого: с 19 июня по 7 ноября 1910 г. Построенная на подлинных материалах, — дневниках, письмах, документах, мемуарах участников событий — она передает неповторимость каждого дня, создает условия для объективного и правдивого восприятия смысла происходящего. Читателю предоставлена возможность, минуя многочисленные трактовки и интерпретации, ощутить себя свободным в поисках ответов на сложные вопросы разыгравшейся драмы. Повествовательный ряд обогащен огромным количеством уникальных фотографий из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого. <br>
<br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/ukhod_tolstogo_kak_eto_bylo/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
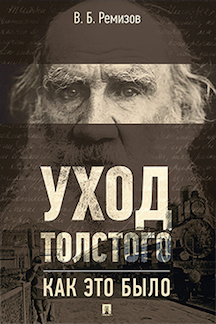
Ремизов В.Б. Уход Толстого. Как это было
Ремизов В.Б. Уход Толстого. Как это было
В книге впервые представлена развернутая хроника последних месяцев жизни Льва Толстого: с 19 июня по 7 ноября 1910 г. Построенная на подлинных материалах, — дневниках, письмах, документах, мемуарах участников событий — она передает неповторимость каждого дня, создает условия для объективного и правдивого восприятия смысла происходящего. Читателю предоставлена возможность, минуя многочисленные трактовки и интерпретации, ощутить себя свободным в поисках ответов на сложные вопросы разыгравшейся драмы. Повествовательный ряд обогащен огромным количеством уникальных фотографий из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого. <br>
<br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/ukhod_tolstogo_kak_eto_bylo/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
Внимание! Авторские права на книгу "Уход Толстого. Как это было" (Ремизов В.Б.) охраняются законодательством!
|