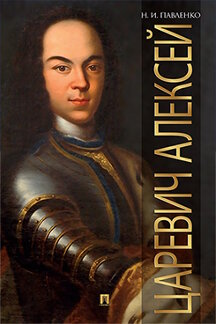|
|
Царевич Алексей
|
|
|
| Возрастное ограничение: |
0+ |
| Жанр: |
Биографии и Мемуары |
| Издательство: |
Проспект |
| Дата размещения: |
08.11.2016 |
| ISBN: |
9785392216307 |
|
Язык:
|

|
| Объем текста: |
340 стр.
|
| Формат: |
|
|
Оглавление
От автора
Глава первая. Детство и юность царевича
Глава вторая. Семьянин поневоле
Глава третья. Бегство
Глава четвертая. Возвращение беглеца
Глава пятая. Московский розыск
Глава шестая. Первый Суздальский розыск
Глава седьмая. Финал трагедии
Приложения
Основные даты жизни царевича Алексея Петровича
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
Глава седьмая.
ФИНАЛ ТРАГЕДИИ
Иностранные дипломаты, как и большинство вельмож, не входивших в «компанию» Петра, полагали, что казнями в Москве дело царевича Алексея будет закрыто. Но они ошибались. Современник событий Вебер в своем сочинении о времени Петра I писал:
«Сначала полагали было, что последними кровавыми казнями в Москве все следствие закончено и всякий повод к дальнейшим беспокойствам уничтожен, тем более что со времени прибытия нашего в Петербург все, что было открыто по следствию, тщательно хранилось в тайне, что и давало повод думать, что важнейшее все дознано и подавлено при последних московских казнях; но теперь, к прискорбию, увидали, что все употребленные в Москве пытки и казни далеко еще не разъяснили истины и что из показаний находящихся в заключении подсудимых ничего бы не добились, если бы по перехваченным и по зашитым в разных одеждах письмам не обнаружилось вполне все дело».
Слова Вебера об обнаруженных у кого-то зашитых в одежду письмах свидетельствуют о том, в какой глубокой тайне велось следствие. Никаких писем не существовало. Продолжение следствия было связано с ожиданием приезда в Россию и выздоровления после родов любовницы царевича Евфросиньи.
Петербургский розыск относится к завершающему этапу следствия по делу Алексея Петровича. Его центральными фигурантами были сам царевич Алексей и его любовница Евфросинья. Впрочем, продолжались розыск и допросы менее значимых персон, перевезенных из Москвы в Петербург, куда переехали двор, сенаторы, министры и иностранные дипломаты. Отметим, что некоторым доставленным в Петербург колодникам был вынесен смертный приговор еще в Москве, но Петр и Тайная канцелярия решили временно сохранить им жизнь, рассчитывая при помощи очных ставок с царевичем получить новые признания или подтвердить старые.
Самую ценную информацию о поведении царевича в бегах предоставила Тайной канцелярии девка Евфросинья. Благодаря стараниям Петра Андреевича Толстого она с охотой вооружила Петра и Тайную канцелярию сведениями, которыми располагала только она и о которых умалчивал царевич. Алексей Петрович, как мы знаем, был безумно влюблен в нее. По словам австрийского посла Плейера, в самый день Пасхи он, поздравляя царицу Екатерину Алексеевну, «упал ей в ноги и, долго не вставая, умолял выпросить у отца позволения жениться на Евфросинье». Но именно Евфросинья и сыграла в его судьбе роковую роль.
Евфросинья и сопровождавшие ее слуги прибыли в Петербург в середине апреля. 20-го числа она была помещена в Петропавловскую крепость. На время (вероятно, до разрешения от бремени и выздоровления) Тайная канцелярия оставила ее в покое, занявшись допросами слуг царевича: Ивана Федорова, Якова Носова и Петра Судакова. Первым из слуг был допрошен иноземец Петр Мейер, все время находившийся в свите царевича и, следовательно, прибывший в Россию раньше Евфросиньи и остальных.
Показания Мейера, равно как и прочих слуг, не представляли для следствия большого интереса, поскольку никто из них не был посвящен в тайное намерение царевича бежать. Все они могли сообщить сведения лишь о том, как развивались события. Мейер, например, был отправлен в путь раньше выезда царевича из Петербурга — ему было поручено приобрести в Риге карету для Алексея Петровича. На допросе он показал о встречах царевича с царевной Марией Алексеевной под Либавой и о продолжительной беседе между ними, а также о встрече с Кикиным и беседе, продолжавшейся с час. О чем шла беседа царевича с царевной и Кикиным, ни Мейер, ни прочие слуги не были осведомлены.
Мейер ехал впереди царевича по маршруту, им определенному, и занимался обеспечением его жильем. Единственное показание Мейера, представлявшее интерес для следствия, состояло в разговоре его с царевичем, состоявшемся в Вене. Мейер недоумевал, почему он и царевич оказались не в Копенгагене, куда должны были ехать, а в столице Австрийской империи:
«Как были мы в Вене, я сказал ему: “Зачем изволишь ехать?” Он отвечал: “Приехал за делом к цесарю от батюшки”. И как был уже за караулом, я говорил: “Для чего изволил так учинить?” Отвечал то ж: “Как дело батюшково кончится, тогда поеду”».
Мейер также сообщил о получении царевичем писем от цесаря; а «были ль из России, не знаю». «Куда повезли его потом, не знаю, и слуху об нем не было, а нас держали взаперти за крепким караулом».
Еще более скудные сведения были получены от Носова, Федорова и Судакова. Носов показал лишь, что был послан царевичем в Вене к графу Шёнборну с извещением о прибытии важной персоны, но о чем они говорили с вице-канцлером, он не знает. Иван Федоров показал под пыткой (ему было дано 15 ударов): «Когда были мы в Эренберге, царевич письма драл, а сколько и какие, не знаю… В Неаполе, запершись с секретарем Кривым (Кейлем. — Н. П.), царевич писал письмо крупными словами, сидел за тем дни с три и отдал секретарю… А писал ли цыфирью, не знаю: азбука лежала в ларце, от которого ключи были у царевича».
Петр Судаков (с виски): «Цыфирные азбуки по приказу царевича я отдал Ивану Федорову. Письма были в Тироле; впрочем, не знаю какие».
Сенат, рассмотрев результаты дознания слуг царевича, 22 июля 1718 года вынес редкий для всего процесса по мягкости приговор: «Царевичевых служителей Петра Мейера, Якова Носова, Ивана Федорова, Петра Судакова, которые во время побега при нем были, сослать в Сибирь для того, что им здесь быть неприлично». Причем велено было определить их (кроме Мейера, который, не дождавшись этого определения, умер в Петропавловской крепости)«в пристойную службу».
Гораздо большего следствие добилось от Евфросиньи.
Голландский резидент де Би 29 апреля 1718 года (по новому стилю) доносил в Амстердам: «Любовница царевича привезена сюда из Германии. При ней много золота, бриллиантов и богатых нарядов. Все удивляются, что царевич мог питать чувство к женщине такого низкого класса. От нее все отобрали, оставив только необходимое».
Сообщение де Би о наличии у Евфросиньи роскошных нарядов и драгоценностей не слишком преувеличено. Сохранилась опись имущества Евфросиньи, составленная в ноябре 1718 года. Правда, бриллианты в ней отсутствуют, но наличие золота опись зарегистрировала. Всего было изъято две коробки сибирского золота весом по 81 золотнику; одна коробка китайского золота весом 202 золотника; 2200 червонных одинаких в мешке; 920 червонных в другом мешке; 837 червонных в третьем мешке.
Золото и деньги были отданы в Поместный приказ. Кроме того, было отправлено в Москву, — надо полагать, в Оружейную палату: «чашка серебряная золоченая с крышею, доскан серебряный овалистый, в нем крест из двух хрусталей, кругом 8 изумрудов, да 26 искр алмазных; часы золотые с репетициею на черной ленте и часовая цепочка золотая».
Что касается гардероба, хранившегося во многих сундуках и баулах, то некоторая часть одежды была мужской: вероятно, царевич, отправляясь из Неаполя в Россию, взял с собой самое необходимое в дороге, а остальное отправил вместе с Евфросиньей. В большом черном немецком сундуке находились камзол и штаны суконные песочного цвета, пара платья лимонного цвета, камзол парчовый, галстуки, два парика, три мужских колпака и др. Все эти предметы по повелению царицы Екатерины Алексеевны, распоряжавшейся судьбой гардероба, были отправлены в Невский монастырь к архимандриту Феодосию.
Частью одежды царица решила пополнить собственный гардероб: двумя чепцами из золотой материи, парчой, штофом, порошком для чистки зубов, книгами церковного содержания; кое-что велела отослать «на употребление внучатам» (то есть детям царевича Алексея Петру и Наталье).
Но часть имущества и материй Екатерина велела генерал-лейтенанту Бутурлину вернуть Евфросинье: чепцы, ленты разных цветов, простыни, платья, кунтушек женский, четки, шапки, пару башмаков, кружева, штуку голландского полотна, парик белый, серебряный пояс и др.
Вопросные пункты при допросе Евфросиньи были составлены самим царем. Можно с большой долей вероятности предположить, что накануне составления вопросов Евфросинью в Петропавловской крепости навестил Толстой на предмет выяснения, какими сведениями она располагает. Это наблюдение вытекает из содержания вопросов. Вот что интересовало царя:
«О письмах: кто писали ль из русских и иноземцев и сколько раз в Тироле и в Неаполе?
О ком добрые речи говаривал и на кого надежду имел?
Из архиереев кого хвалил и что про кого говаривал?
Как у матери был, что он говорил?
Драл ли какие письма?»
Возможно также, что Петр Андреевич подсказал Евфросинье, как надлежит отвечать на вопросы, чтобы угодить царю. Согласно донесению Плейера, царь велел доставить любовницу царевича в закрытой шлюпке и тайно допросил ее, после чего велел отправить ее в крепость. Возможно, разговор этот не был оформлен документом и носил предварительный характер.
Ответы Евфросиньи настолько существенны и сообщают такие исключительные сведения, укрепившие веру царя в то, что в лице сына он имеет дело с человеком, питавшим к нему и ко всем его начинаниям глубокую неприязнь, что они достойны полного воспроизведения. Показания заканчиваются словами, что они написаны своеручно Евфросиньей. Но это заявление вызывает сомнение: малограмотная любовница не могла так четко и грамотно изложить все, что она знала. Отсюда еще одна догадка: показания сочинял Толстой вместе с Евфросиньей. Числа в показаниях Евфросиньи не обозначено. Но допрос был снят ранее 12 мая (в этот день показания были предъявлены царевичу Алексею).
Итак, вот что отвечала Евфросинья на вопросы царя:
«Письма (царевич. — Н. П.) писал из крепости, а притом никакого иноземца не было, а были только я, да он, царевич, да брат мой; а писал по-русски; а писано не на первых днях, а гораздо спустя после того, как в крепость посадили.
Также писал и к цесарю с жалобами на государя; а чаю, что в то же время, как и вышеписанное писал.
Он же сказывал мне, что в войске бунт, и то из курантных ведомостей, а что близко Москвы, то из писем прямых.
Как была при царевиче и жила в Эренберге с ним, приходили немецкие письма, с три, через генерала и секретаря. А писывал в Неаполе русские письма, а к кому, не знаю; только слышала я от царевича, что писал к архиереям из крепости, а к кому, не знаю, и писал незадолго до прибытия Толстова.
К цесарю царевич писал жалобы на отца многажды; и когда он слыхал о смущении в Мекленбургии, тогда о том радовался и всегда желал наследства, и для того и ушел, и в разговорах говорил мне, что де все ему злодействовали, кроме Шафирова и Толстова: “Авось либо де Бог нам даст случай с радостию возвратиться”.
Царевич из Неаполя к цесарю жалобы на отца писал многажды; а перед приездом к нам господина Толстова незадолго, а именно в средине нашей бытности в крепости, как уже можно было на то письмо и ответу быть, он, царевич, писал к архиерею письмо по-русски из крепости, а при том никакого иноземца не было, а были только он, царевич, да я, да брат мой; и писал он то письмо не на первых днях, как мы в крепость посажены, но гораздо спустя, также и с жалобами к цесарю он, царевич, писал, чаю, в то время, как и вышеписанное письмо писал к архиерею; а первые письма писал он, царевич, к двум архиереям не в крепости: еще до оной, будучи в квартире, а к которым, не сказал, и писал прежде того письма задолго.
Он же, царевич, сказывал мне о возмущении, что будто в Мекленбургии в войске бунт, и то из ведомости; а потом будто близко Москвы, из писем, а от кого, не сказал, и радовался тому и говорил: “Вот де Бог делает свое”. И как услышал в курантах, что у государя меньшой сын царевич был болен, говаривал мне также: “Вот де видишь, что Бог делает: батюшка делает свое, а Бог свое”. И наследства желал прилежно; а ушел де он, царевич, от того, будто государь искал всячески, чтоб ему, царевичу, живу не быть. А сказывал де ему Кикин, будто он слыхал, как государю говорил о том князь Василий Долгорукой.
Он же, царевич, говаривал со мною о Сенатах: “Хотя де батюшка и делает, что хочет, только как еще Сенаты похотят; чаю де Сенаты и не сделают, что хочет батюшка”. И надежду имел на сенаторей, а на кого именно, не сказал.
А про побег царевичев ведали, что он сам мне сказывал, четверо: Кикин, Афанасьев, Дубровский да царевна Мария Алексеевна. А об архиереях он говаривал и одного хвалил, а кого — не упомню; и письма которые он к ним писал, говорил мне, что те письма писал и посылал для того, чтобы в С.-Питербурхе их подметывать (подбрасывать. — Н. П.), а иные и архиереям подавать, а не сказал — кому.
Он же мне говаривал: “Я де старых всех переведу, а изберу себе новых, по своей воле”. И когда я его спрашивала против того, что кто у тебя друзей, и он мне говорил: “Что де тебе сказывать. Ты де не знаешь. Все де ты жила у учителя (Никифора Вяземского. — Н. П.), и других де ты никого не знаешь, а сказывать де тебе не для чего”.
Царевич же мне сказывал, что он от отца для того ушол, что де отец к нему был немилостив, и как мог искал, чтоб живот ево прекратить, и хотел лишить наследства; к тому ж, когда во время корабельного спуску, всегда его поили смертно и заставляли стоять на морозе, и от того де он и ушел, чтобы ему жить в покое, доколе отец жив будет, и наследства он, царевич, весьма желал и постричься отнюдь не хотел.
Да он же, царевич, говаривал, когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город; также и корабли оставит и держать их не будет; а и войска де станет держать только для обороны; а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле; и когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Питербурхе тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина не даром: “Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет”. Он же говаривал: “Отец мой не знаю, за што мене не любит, и хочет наследником учинить брата моего, а он еще младенец, и надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна; и когда, учиняя сие, умрет, то де будет бабье царство и добра не будет, а будет сметение: иные станут за брата, а иные за меня”.
И я его спрашивала: “Кто за тебя станет?” И он мне говаривал: “Что де тебе сказывать? Ты их не знаешь”. А иногда и молвит о каком-нибудь человеке, и я стану спрашивать: “Какого он чину и как прозвище?” И он говаривал: “Что же тебе и сказывать, когда ты никого не знаешь”.
Он же говорил мне в Эренберге, что хотел он ехать в некакие вольные города; а приговаривал ему о том или Дубровский, или иной кто, не упомню. А когда господин Толстой приехал в Неаполь, и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе Римскому, но я его удержала.
И когда уже намерился ехать к отцу и в самый тот день, когда из крепости Сент Эльма выезжал, отдал мне письма черные, каковые он писал к цесарю с жалобою на отца, и хотел их показывать вицерою Неапольскому, однако ж велел мне оные письма сжечь, и я их сожгла. А писаны были все по-русски и было их много; а все ли были писаны к цесарю, того я не знаю, понеже прочитать их не могла для того, что писаны были связно, к тому ж и время было коротко. А когда еще те письма не были созжены, приходил к нему, царевичу, секретарь вицероя Неапольского, и царевич из тех писем сказывал ему некоторые слова по немецки, и он, секретарь, записывал и написал один лист; а тех писем было всех листов с пять. А сие все писала я, Евфросинья Федорова дочь, своею рукою».
Петр вполне оценил услугу Евфросиньи следствию. Плейер извещал цесаря: «Любовница, которая якобы была единственной, чьи уговоры побудили принца к возвращению, как говорят, находится у царя и царицы в большой милости, потому что они тайно узнали об опасных замыслах принца, как из устных заявлений, так и из обнаруженных бумаг».
Показания Евфросиньи вызвали небывалое смятение духа и у отца, и у сына. Проявлялось оно по-разному. Темпераментного Петра они окончательно убедили в том, что царевич предстал не в образе любящего сына, а в образе человека, воспринимавшего отца как личного врага, а его деятельность, то есть преобразовательные начинания, — как никому не нужную затею, с которой он тут же расстанется, как только займет трон: все жертвы подданных, понесенные в ходе изнурительной Северной войны, окажутся никчемными, а напряженная, полная опасностей жизнь преобразователя — никому не нужной: сын намеревался повернуть ход истории страны вспять, вернуть ее во времена Московского царства.
Можно представить, какие чувства испытывал царевич, когда ему дали прочесть показания нежно любимой «Евфросиньюшки» и предложили письменно ответить на них. Царевич, несомненно, пережил сильнейшее потрясение. Преодолевая чувство горечи, с затуманенным шоком сознанием, он собрался с силами и 12 мая дал следующий ответ «на расспрос девки Офросиньи»:
«К цесарю на отца с жалобами писал, да не посылал, а выбрав из того же, сказывал секретарю, что от чего он ушел и за чем ехать не хотел, и оных де писем нет нигде, а черные все сжег (Евфросинья же показала, якобы письма сожгла она. — Н. П.).
К архиереям из крепости не писывал.
О письмах к архиереям говорил не в такой образ, а именно говорил так, что оное подкинуть в Питербурхе на почту, как бы могло оное до них дойтить, а не саморучно б подать.
О видениях и об отце может быть, что такие слова говаривал.
В вольные городы отъезжать приговаривали Дубровский да Иван Афанасьев.
Письма сжечь велел».
Далее последовала очная ставка с любовницей, которую Алексей — при таких-то обстоятельствах! — впервые увидал после расставания:
«И в помянутых запорных словах дана ему с девкою Афросиньею очная ставка; а с очной ставки он, царевич, запирался ж. А девка его уличила и говорила то ж, что и написала. И он, царевич, того числа на те ж пункты, одумався, сказал:
К цесарю писал, как он ушел, а от чего и зачем возвратиться не хотел, а больше не упомнит. К архиереям из крепости конечно не писывал.
О Сенатах — как де еще они похотят — такие слова говаривал; а надежды де ни на кого не имеет и никого не таит. Царевне (Марии Алексеевне. — Н. П.) о побеге своем так, что хочу де я скрыться, говорил. А что в повинных о том не написал, и в том виноват…
О видениях и о курантах и об отце говаривал с слов Сибирского царевича…
Секретарю вицероя Неапольского сказывал те слова, от чего он ушел и для чего ехать не хотел.
А больше того не знает и никого не таит».
В тот же день, 12 мая, царевича подвергли новому допросу. К этому времени Тайная канцелярия полностью закончила Московский и первый Суздальский розыски и располагала достаточными уликами, чтобы обвинить царевича в том, что он в повинном письме утаил некоторые существенные детали, обнаруженные при допросах других колодников, «а об иных написал, да не все их обстоятельства». Царевичу было предложено ответить на небывалое количество вопросов — 19, составленных с учетом показаний Евфросиньи и других подследственных, как живых, так и казненных. В ответах Алексей Петрович либо отрицал свою вину, либо заявлял, что утаил те или иные факты «за беспамятством» (что в следственной практике Тайной канцелярии расценивалось как признание допрашиваемым своей вины), либо признавал, что сознательно скрывал компрометирующие его сведения с целью уклониться от ответственности или для того, чтобы не впутывать в следствие близких ему лиц.
Так, царевич по-прежнему настаивал, что письма к Сенату и архиереям он сочинил по принуждению, в то время как следствие выяснило, что они были написаны по собственной его инициативе.
Приведем некоторые другие важнейшие вопросы, интересовавшие следствие, и ответы царевича:
Вопрос: «О Дубровском, что он ведал о его побеге и бежать приговаривал, в повинной утаил же».
Ответ царевича: «Утаил с умыслу, потому что говаривали о том с ним наедине, и для того в повинной не написал».
Вопрос: «О Семене Нарышкине, что как с ним съехался в пути и говорил, чтоб побыть долго, в повинной утаил же».
«Не написал в повинной за беспамятством».
Вопрос: «О царевне Марии, что она ведала о его побеге, а он в повинной о том утаил, а после объявил, как с нею съехался в Либоу (Либаве. — Н. П.) и имели разговор, и в том об ней, что как он ей о своем побеге говорил, не написал же».
«Говаривал ей так: я де хочу скрыться. А что в повинной о том не написал и утаил, и в том виноват».
Вопрос: «Афанасьев показал: когда сердит бывал на Толстую и на других, обещал на кол и говаривал: “Я де плюну на всех; здорова б де была мне чернь”».
«Говаривал спьяна».
Вопрос: «О Питербурхе говаривал, что де недолго за нами будет».
«Говаривал со слов Сибирского царевича».
Вопрос: «Эварлаков: О побеге царевич сам ему сказывал в 715 году так: “Либо де уехал или б де жил в Киеве в Михайловском монастыре или б де в полону был, нежели здесь”. А в повинной о том не написано».
«Говорил, а в повинной не написал за беспамятством».
Вопрос: «Он же: Принимал лекарство, притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтоб от того тем отбыть».
«Притворяя себе болезнь, лекарство нарочно, чтоб не быть, принимывал и в том виноват».
14 мая царевич подал собственноручное письмо отцу с новыми объяснениями. Спустя еще два дня, 16 мая, последовали очередной допрос и новые разъяснения Алексея.
Показания его во многом путаны и сбивчивы:
«В сенаторех я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть отцу моему случилась в недорослых летех братних, то б чаял я быть управителем князю Меншикову, и то б было князю Якову Долгорукому и другим, с которыми нет согласия с князем, противно. И понеже он, князь Яков, и прочие со мною ласково обходились, то б, чаю, когда возвратился я в Россию, были б моей стороны…
А к тому были мне все друзья, и хотя б в прямые государи меня и не приняли все, для обещания и клятвы (а чаю, что и я, ради клятвы в отречении от наследства в первом письме, не принял короны), а в управители при брате всеконечно б все приняли до возраста братня, в котором б мог, буде Бог допустил, лет десять или больше быть, что и с короною не всякому случается; а потом бы, когда брат возрос, то бы я отстал, понеже бы и летами не молод был, и жил бы так, или пошел в монастырь; а может быть, чтоб до того и умер…
А когда был я в побеге, в то время был в Польше Боур с корпусом своим, также мне был друг, и когда б по смерти отца моего (которой чаял я быть вскоре от слышанья, что будто в тяжкую болезнь его была апелепсия, и того ради говорили, что у кого оная в летех случится, те недолго живут, и того ради думал, что и велико года на два продлится живот его), поехал из Цесарии в Польшу, а из Польши с Боуром в Украину, то б там князь Дмитрий (Голицын. — Н. П.) и архимандрит Печерский, который мне и ему отец духовный и друг… также и архиерей Киевский мне знаем, — то все б ко мне пристали… И так вся от Европы граница моя б была и все б меня приняли без великой противности, хотя не в прямые государи, а в правители всеконечно. А в главной армии Борис Петрович (Шереметев. — Н. П.) и прочие многие из офицеров мне друзья же.
А о простом народе от многих слыхал, что меня любят…
А при животе б батюшковом мне отнюдь не возвращаться иным образом, кроме того как ныне возвратился, то есть по присылке от него. И о сем и на мысли не было, для того, что ведаю, чтоб меня никто не принял».
Объяснения сына не удовлетворили Петра. В тот же день 16 мая царевичу были предъявлены новые допросные пункты отца, на которые он ответил собственноручно. Приведем его ответ лишь на один вопрос, касающийся его радости по поводу мнимого бунта в русских войсках, расквартированных в Мекленбурге (об этом следствию, напомним, было известно от Евфросиньи; о самом же бунте, выдавая желаемое за действительное, доносил в Вену резидент Плейер, за что позднее и поплатился: царское правительство добилось-таки его высылки из Петербурга):
«Когда слышал о Мекленбургском бунте, радуяся, говорил, что Бог не так делает, как отец мой хощет; и когда бы оное так было и прислали б по меня, то бы я к ним поехал; а без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче и опасался без присылки ехать. А когда б прислали, то б поехал. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того, что писано в оном, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то б мог и поехать».
Царевич Алексей
Несчастный сын Великого Петра не относится к числу выдающихся деятелей русской истории. Однако его трагическая судьба — он умер, не выдержав пыток, в застенках Петропавловской крепости — ярко высвечивает и характер его отца, царя-преобразователя Петра I, и нравы той жестокой эпохи, в которую ему довелось жить. Жизнь и смерть царевича Алексея Петровича стали темой книги признанного знатока Петровской эпохи и классика историко-биографического жанра Николая Ивановича Павленко.
<br><br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/tsarevich_aleksey/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
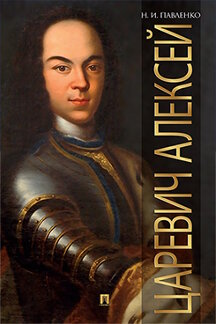
Павленко Н.И. Царевич Алексей
Павленко Н.И. Царевич Алексей
Несчастный сын Великого Петра не относится к числу выдающихся деятелей русской истории. Однако его трагическая судьба — он умер, не выдержав пыток, в застенках Петропавловской крепости — ярко высвечивает и характер его отца, царя-преобразователя Петра I, и нравы той жестокой эпохи, в которую ему довелось жить. Жизнь и смерть царевича Алексея Петровича стали темой книги признанного знатока Петровской эпохи и классика историко-биографического жанра Николая Ивановича Павленко.
<br><br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/tsarevich_aleksey/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
Внимание! Авторские права на книгу "Царевич Алексей" (Павленко Н.И.) охраняются законодательством!
|